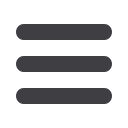

16
Людмила Малюкова «Я сердцем никогда не лгу»
коренных устоев («Вот сдавили за горло деревню/ Каменные руки шоссе», «Сты-
нет поле в тоске волоокой,/ Телеграфными столбами давясь», «На тропу голубого
поля/ Скоро выйдет железный гость./ Злак овсяный, зарёю пролитый,/ Соберёт его
чёрная горсть»). И сам поэт, словно идя по замкнутому кругу, ощущает себя без-
надёжно обречённым («Средь железных врагов прохожу»). Так появляется целый
цикл стихотворений «Москва кабацкая», в которой отчаяние переходит в буйство,
тоска — в смятение, растерянность — в мучительный крик. И объявление себя в
самых скандальных воплощениях: бродяги, забияки, гуляки, шарлатана, злодея,
уличного повесы… Трагедия бунтарства высказывается предельно откровенно:
«Заливаю глаза вином,/ Чтоб не видеть в лицо роковое, / Чтоб подумать хоть
миг об ином». Урбанистические мотивы, которые сменяют прежнюю «роскошь
цветения» и «половодье чувств» сельского бытия, отражают теперь мертвенно
застывшие краски, деформированные предметы, отражённые на поверхности
мутной водяной глади («В чёрной луже продрогший фонарь,/ Отражает безгубую
голову», «меж скелетов домов, словно мельник, несёт колокольня/ Медные мешки
колоколов»). Возникает целый ряд «тёмных» неологизмов типа: мреть, жуть, темь,
зловещая выбель. Природа, если и проглядывает, то в зловеще мрачных тонах
(«Бродит чёрная жуть по холмам./ Злобу вора струит в наш сад»). Чёрный цвет
вторгается всюду, разливая ужас смертельного предчувствия. И с обескуражи-
вающей силой обречённости поэт объявляет: «Здравствуй ты, моя чёрная гибель!
Я на встречу тебе выхожу». Кажется невероятным, но в эту жестокую атмосферу
кромешной безысходности вдруг начинает вторгаться несказанно оживляющий,
перестраивающий всё чуждое человеческой душе, — тёплый и нежный свет,
смиряющий своей неистовой благодатью. Так появляется гениальное стихотво-
рение «Не жалею, не зову, не плачу» об утраченной и бесполезно растраченной
юности, о сожалении («О моя утраченная свежесть…») жизни-миге, похожем
на чудный сон с промелькнувшим «розовом конём» «весенней гулкой ранью»,
о примирении всего живого и близкого: «Все мы, все мы в этом мире тленны».
Последние строки стихотворения звучат как «молитвословное» откровение,
ставшее формулой великого гуманизма: «Будь же ты вовек благословенно,/ Что
пришло процвесть и умереть». Любопытно, что это лирическое излияние было
навеяно элегическим вступлением к шестой главе поэмы «Мёртвые души» Гого-
ля, власть которого над поэтом во все годы была безупречна. «…Что пробудило
бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скольз-
ит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя
юность! О, моя свежесть!» — эти строки из поэмы великого писателя-сатирика
внесла к комментарию стихотворения С. Толстая-Есенина.
Безусловно, нужен был весьма сильный и решительный «стресс», который
мог бы вывести поэта из критического состояния. И он представился. В 1922 году
С. Есенин знакомится со знаменитой Айседорой Дункан, приехавшей в Россию
по приглашению А.В. Луначарского. Женившись на «великой лицедейке танца»
(А. Мариенгоф), он уезжает за границу более чем на год, посетив Францию,
Германию, Италию, Бельгию, Голландию, США, Канаду. Стремление увидеть
«большое на расстоянии», несомненно, захватило поэта. В то же время все его
письма пронизаны мучительной ностальгией по России («Но более всего любовь
к родному краю/ Меня томила, мучила и жгла»), а сравнения «нищей России» с
респектабельным Западом порождали неоднозначность увиденного. Высокое раз-
витие европейской и американской техники давало возможность почувствовать
















