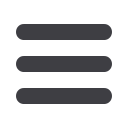

93
ДОН_новый 15/1-2
А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий
— пожалуйте в эшелон. Провожали меня все четверо моих: Ирина, Анато-
лий и дочери — Настенька и Олюшка. Все ребята держались молодцом. Ну
у дочерей — не без того, посверкивали слезинки. Анатолий только плечами
передергивал, как от холода, ему к тому времени уже семнадцатый год шёл,
а Ирина моя… Такой я её за все семнадцать лет нашей совместной жизни ни
разу не видал. Ночью у меня на плече и на груди рубаха от её слёз не про-
сыхала, и утром такая же история…Пришли на вокзал, а я на неё от жалости
глядеть не могу: губы от слёз распухли, волосы из-под платка выбились, и
глаза мутные, несмысленные, как у тронутого умом человека. Командиры
объявляют посадку, а она упала мне на грудь, руки на моей шее сцепила
и вся дрожит, будто подрубленное дерево… И детишки её уговаривают, и
я, — ничего не помогает! Другие женщины с мужьями, с сыновьями раз-
говаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит,
а слова вымолвить не может. Я и говорю ей: «Возьми же себя в руки, милая
моя Иринка! Скажи мне хоть слово на прощанье». Она и говорит, и за каж-
дым словом всхлипывает: «Родненький мой… Андрюша… не увидимся мы
с тобой… больше… на этом… свете»…
Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с
такими словами. Должна бы понимать, что мне тоже нелегко с ними расста-
ваться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло! Силой я разнял её
руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня!
была дурачья; она попятилась, шага три ступнула назад и опять ко мне идёт
мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей: «Да разве же так про-
щаются? Что ты меня раньше времени заживо хоронишь?!» Ну, опять обнял
её, вижу, что она не в себе…
Он на полуслове резко оборвал рассказ, и в наступившей тишине я услы-
шал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение пере-
далось и мне. Искоса взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не
увидел в его словно бы мёртвых, потухших глазах. Он сидел, понуро склонив
голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали, дрожал
подбородок, дрожали твёрдые губы…
—Не надо, друг, не вспоминай! — тихо проговорил я, но он, наверное, не
слышал моих слов и, каким-то огромным усилием воли поборов волнение,
вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом:
—До самой смерти, до последнего моего часа, помирать буду, а не прощу
себе, что тогда её оттолкнул!..
Он снова и надолго замолчал. Пытался свернуть папиросу, но газетная
бумага рвалась, табак сыпался на колени. Наконец он всё же кое-как сделал
кручёнку, несколько раз жадно затянулся и, покашливая, продолжал:
— Оторвался я от Ирины, взял её лицо в ладони, целую, а у неё губы
как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на
подножку. Поезд взял с места тихо-тихо; проезжать мне — мимо своих.
Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят
улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди; губы белые как
мел, что-то она ими шепчет, смотрит на меня, не сморгнёт, а сама вся вперед
















