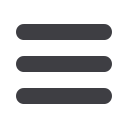

117
ÄÎÍ_íîâûé 13/1
— Не знаю, как мне, а уж Рослякову точно надо было жить в другое время, —
вспомнил я после монаршего Хаммурапи и о простом фронтовике, о блистательном,
ныне напрочь забытом писателе Василии Петровиче Рослякове.
Он умер в роковом 1991 году, не в силах расстаться со своей напрасной надеждой
на то, что наше Отечество, спасённое его поколением от чумы коричневой, спасётся
и от чумы либеральной.
Наверно, я тоже с такоюже надеждой до сих пор не расстался. Но только живёт она
во мне вопреки рассудку, лишь инстинктивно, как та песня, которую когда-то в своём
ночном одиночестве я выскуливал, удерживая судно против штормовой волны.
Это Достоевскому суждено было догадаться лишь о том, что если Бога нет, то
всё позволено. А нам довелось понять ещё и то, что если Бога нет, то напрасным
является даже и то, что нам уже самою сутью нового времени не позволено, что, как
в тёмном чулане, таится и теплится в нашей душе вопреки всему.
РАССКАЗ О НЕНАПИСАННОМ РАССКАЗЕ
Сочинителем я оказался с самых ранних лет. Хотя об этом и не догадывался. То
есть, едва научился я говорить с должной бойкостью, сразу стал всех атаковать под-
робными пересказами якобы увиденных мною фильмов и якобы услышанных мной
историй про лошадей и собак или, например, про кошку, которая на самом деле была
не кошкой, а, допустим, ведьмой. Старший брат пытался уличить меня во вранье. «Да
сроду не показывали у нас в клубе такого фильма!»— заявлял он. Мать принималась
защищать меня: «Мало ли какие фильмы бывают! Пусть рассказывает!». Отца же
мой бесконечно фонтанирующий талант сочинителя погружал в бессловесную и
жалостливую ко мне печаль.
А вот наш сосед Максимыч, хромой и одинокий, предоставлял моему раннему
вдохновению абсолютно полную свободу. И мы с ним сошлись. Едва он появлял-
ся у себя во дворе или на огороде, я мчался к нему. И начинал рассказывать. А он
слушал. И даже задумчиво поддакивал мне: «Да... Ох, Боже ж мой... Ох, как же оно
повернулось...»
В таких слишком уж благостных условиях остановить меня было невозможно.
Он шёл по воду, а я — рядом с ним. Он шёл в дом, я — за ним. Он ложился на лавку
передохнуть, а я присаживался рядышком на табурет.
Лишь в редких случаях он прерывал меня, давал трёшку и просил: «А доскачи-
ка до магазина, а потом доскажешь...» Я, как марафонец, устремлялся к магазину.
Там толстая и глазастая продавщица спрашивала у меня: «Это Максимыч тебя
опять прислал?» — «Максимыч», — сознавался я. «Тогда я на сдачу дам конфет!»
— важно принимала она решение в мою пользу. Максимыч же, когда я, вручив ему
водку, докладывал и о конфетах, начинал на меня ворчать: «Хватило бы сдачи и на
подушечки тебе, и мне на пачку «Прибоя». А я, дабы нашей дружбе ничего не по-
мешало, в следующий раз умолял продавщицу дать на сдачу ещё и папирос, но она
оставалась неумолимой: «Хлопчик ему в магазин бегает, а он подушечками хочет
отделаться?» — «У него нога болит!» — защищал я Максимыча до последнего,
потому как дешёвые подушечки были такими же сладкими, как и более дорогие
«Мишки». Но и эта вечная интрига продавщицы против нашей дружбы не могла
помешать Максимычу быть наиболее верным почитателем моего сочинительского
таланта. «А-а, — утешал меня Максимыч, — твои такие годы, что без конфет ты не
проживёшь, а у меня и самосад есть!» От водки у него глаза сначала округлялись,
затем слушал он меня уже зажмурившись, затем, объявивши, что сквозь сон слушать
















