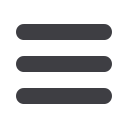

112
Ðàññêàçû
Все эти мои верноподданнические к капитану настроения на экипаж не действова-
ли. Да и сам я не мог оставаться в стороне от наших тайных и потому необыкновенно
притягательных приключений.
А может быть, это только теперь мне кажется, что среди всех моих напрасных
свойств была и жажда верноподданничества?
Но в таком случае отчего, в очередной раз «уворовав» колхозную лошадь и пу-
стивши её в галоп, я представлял себя кавалеристом, мчащимся навстречу смерти
ради чего-то более важного, чем сама моя жизнь? И калитку я не просто некоей бабе
Меланье чинил, а вдове и матери героев, погибших в суровой битве с врагом. Да и
стихи я стал пописывать только потому, что горло у меня трескалось от суммарного
напряжения всех тех высоких смыслов, которые мне мерещились где-то далеко от
нашего, как мне казалось, вечно погружённого лишь в работу и дремоту села. То есть
я, видимо, всё-таки ощущал себя человеком, которому оставалось лишь во что-то
вполне истинное уверовать и за что-то самое драгоценное побороться.
А когда, вдоволь наблуждавшись по свету, я наконец оказался у стен Кремля, то
сердце моё заныло, а в голове зашумела кровь, потому что — вот же она, всему миру
видимая Спасская башня, вот же воздел к небу свои бессмертные купола и испытующе
на меня глядит Василий Блаженный, вот блестит брусчатка, по которой сам Жуков,
принимая Парад Победы, процокал копытами своего белого рысака...
Ну, допустим, приехав Москву для поступления в Литературный институт и
впервые добредя до главной площади страны, я ни о чём таком не размышлял, но
не менее часа простоял как вкопанный, исподлобья озирая известные мне наизусть
святыни.
И можно лишь сожалеть, что в Кремле в это время сидел старичок более ветхий,
чем даже дед Яшка в пору моих плотницких подвигов, с трудом одолевающий своим
речевым аппаратом все самые главные державные слова.
Однажды в Центральном Доме литераторов писатель Василий Петрович Росля-
ков, с которым я успел подружиться, под рюмку водки вдруг заговорил и о нашем
Брежневе.
— Веришь ли ты, Коля, — с ожесточённым своим страданием сознавался он,
— если б кто-то на фронте мне сказал, что вынужден буду я ещё и плакать возле те-
левизора вот такими слезищами (Василий Петрович поднёс к моим глазам две свои в
полнуюширину растопыренные горсти), что после Сталина сначала самодур, а затем
маразматик будут править моей самой великой в мире страной, что на просторах от
Тихого океана до Балтики государство наше уже не выкормит бычка на лишний кусок
говядины для магазинных полок, то я бы в это не поверил... Да сроду не поверил бы
я когда-то, что буду дожидаться, когда этот мешок с трухой из Кремля вынесут... И
ты ещё увидишь, какие гниды в Кремле вокруг этой мумии уже завелась... Сейчас
они там тихонечко копошатся, а когда они всю власть себе заберут, когда своё мурло
тебе покажут, ты их оттуда уже даже дустом не вытравишь!
Но за годы своих благополучных скитаний я нагулял себе столь оптимистический
румянец, что все слова о заговорах против моей страны отлетали от моих щёк, как
горох. Так что хотя Василий Петрович был более чем в два раза старше меня, слушал
я его надрывный глас с таким же сочувствием, с каким много чего повидавшие люди
сочувствуют юношам, впадающим в уныние при первом крушении своих надежд.
И всё-таки после этого нашего разговора заставить себя глядеть в телеэкран на
Брежнева я уже не мог. И был я рад каждой встрече с Василием Петровичем прежде
всего потому, что у него на виду я вдруг наполнялся, как при первом посещении
Красной площади, торжественным предчувствием скорой бури.
А когда появился Горбачёв, то росляковский глас: «Ну, повыползали из своих ще-
лей! Повыползали! И что же они творят, что творят!» — уже для меня не оставался
















