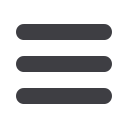

110
Ðàññêàçû
почёта и прочего, было намалёвано моей рукой. Однако же о своём самодеятельном
умении рисовать я затем вспомнил в своей жизни лишь пару раз. Когда служил в
армии, то для выполнения оформительских работ меня иногда освобождали от од-
нообразных боевых дежурств на неделю и дольше. И ещё я взялся за кисти, чтобы
расписать орнаментами храм в винницком городишке Чечельник и тем самым за-
работать денег перед женитьбой.
Кроме того, очень часто, как самый счастливый сон, я вспоминаю бесконечную
морскую гладь — то синюю и лёгкую, как невесомый воздух, то зеленоватую и
изукрашенную белыми рунами пены, то мускулистую и свинцово-серую, а иногда
по утрам — молочно-белую, а затем розовую, а затем — ослепительно-золотую,
а на закатах — даже не могу сказать, какую. И особенно мне нравилось стоять за
штурвалом нашего старенького сухогруза «Мингечаур» ночью, когда по его, ока-
зывается, не такому уж и крупному корпусу пробегали судороги под ударами волн,
когда брызги с хрустом впечатывались в стёкла рулевой рубки, а я, распахнув рот,
выскуливал занемевшим от восторга горлом некую свою полную ярости мелодию,
и она полновластно вплеталась своей хоть и утлой, но живою нитью в выдыхаемую
морской стихией великанью симфонию.
Четыре часа такой вахты пролетали, как один миг!
Однажды капитан вошёл в рубку именно тогда, когда я, удерживая судно против
волны, уже не скулил, а вопил как резаный. От смущения я изогнулся над штурвалом
в три погибели. И уши мои запылали так, что я даже услышал треск своих волос.
Но, сняв мокрый плащ и озабоченно взглянув на картушку компаса, капитан по-
дивился только тому, что берегового огня с мыса Тарханкут всё ещё не видно.
—На всякий случай ты градусов на пять влево забери и так удерживай, — велел
он. — А то даже не заметишь, как в этот Тарханкут врежемся.
И не без облегчения я понял, что моё свойство впадать во время шторма в обмо-
рок звериного пения не такое уж и редкое, что, может быть, даже и он, наш вечно
хмурый капитан, — такой, как я, созвучный природным вызовам человек.
Три года я был рулевым матросом. Но надо было куда-то девать скопившиеся у
меня тетрадки со стихами. И однажды я от моря проснулся, из сердца его навеки
вырвал, купил билет на поезд и умчался непонятно куда и с непонятно какою новою
жаждою.
И если, например, в Киеве я сразу же стал тяготиться работою на стройке в каче-
стве электромонтажника, то в инструментальном цехе волгоградского завода «Крас-
ный Октябрь» я прикипел к токарному станку намертво. Так что мой наставник дядя
Миша (так он велел себя называть) уже через месяц на спор с другими токарями
вместо нарезания гаек или шайб поручал мне даже свою хоть не трудоёмкую, но на
доли микрон работу, а я — благополучно справлялся.
А однажды в вестибюльчике нашей душевой он вдруг остановил меня за локоть
и строго велел:
— Ты здесь стой и гляди на вон того человека, пока он не оденется и не уйдёт, а
потом мне скажешь, кем он тебе показался...
Решив, что дядя Миша опять с кем-то на мои свойства поспорил, я терпеливо
стал наблюдать за невысоким мужчиной лет пятидесяти, не спеша одевавшимся
возле своего вещевого шкафчика. Пока был он лишь в трусах и в майке, то от всех
прочих токарей нашего цеха отличался разве что почти подростковой щупловатостью
и особой задумчивостью. Другие перешучивались, всё время вступали друг с другом
в короткие и ничего не значащие разговоры, а он даже мочалку и мыло укладывал в
шкафчик с таким видом, словно решал самую ответственную задачу. И лишь когда
он сначала надел немыслимо белую рубаху, а затем и дорогущий костюм с галстуком,
мне стало ясно, что нашему брату он не чета.
















