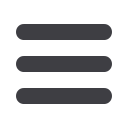

58
Î ñóáúåêòàõ, ïàíòåîíå è «âîèñòèíó æåñòîêîì âåêå»
их честь. Но вот автор переходит к рассказу о современном Загряжске, обнажая
«вялотекущую противоположность», где рядом с вековыми куренями возникают
роскошные особняки с высокими заборами, за которыми можно разве что ходить
«во фраке» и пить «охлаждённую пепси». Отчего возникает одно только слово:
«Скучно». И авторское «Я» как-то сразу начинает обретать свой неповторимый
«имидж»: не по нутру ему вся эта новоявленная чопорность и чужеродный анту-
раж. Ближе нечто обыденное, разбавленное неувядаемым народнымюмором, вот
как в этом непринуждённом диалоге с «замечательной женщиной», «украшением
Загряжска», Антониной Светличной: «Афанасьевич! — Что, Антонина? — Ты
не хочешь, чтобы я сдохла? — Не хочу. — Тогда дай десятку опохмелиться.
—Даёшь не то, что без возражения, а даже с готовностью». Впрочем, образ «вы-
сокого забора» — это своего рода сакраментальный символ, который скрывает
в себе нечто порочное, амбициозное, противостоящее естественной открытости.
Экс-министру Пучеглазову, вернувшемуся в родные места и страдающему от
одиночества, один из героев Загряжска советует снести «трёхметровый забор
и по утрам разговаривать с соседом через дорогу», а в ответ на его несогласие
(«Стёкла побьют, обворуют») отвечает: «Тогда иди в монастырь».
Конечно, «автобиографическое» в романах В. Воронова гораздо глубже проявления
внешней лёгкости общения. Оно и в том душевном напряжении, за которым открыва-
ется некая имманентная сопричастность. Автор очень тонкий наблюдатель, глубокий
психолог, великолепный знаток природного мира и быта российской провинции. Такое
знание отечественной фауны и флоры не часто встретишь в современных романах. А
здесь открывается столь широкое изобилие разнотравья, что только дух захватывает:
высокие фиолетовые метёлки шалфея, мать-и-мачеха, заячий холодок, калмыцкий
кермек, купыри, чабрец, зверобой, душица, полынок, бессмертник… С интересом узна-
ёшь повадки и голоса птичьего мира: оказывается, совы бывают весьма агрессивны, а
кобчик, оберегая своё гнездо, может и «глаза выклевать», орлан-белохвост «державно»
оглядывает пойму жёлтыми глазами, гулко отдаётся «гремучая дробь» дятла, «резко
и отчётливо сверлит тишину» соловей, «диким хохотом отзываются стаи» бакланов,
кукушка издаёт «человечьи клики»…А как образно динамичны космические явления!
Вот, например, картина грозы: «…Молнии кроили, рвали небо, гром отвесно падал
вниз, гулко давя землю. Дождь лил стеной, гудел, дышал надрывно, тяжело…» Уди-
вительно точны сравнения и метафорические приёмы: «купола искрятся, как брызги
шампанского», «мысли бегали, как воробьи по веткам», «рынок забит, как макитра с
варениками», «краснобокие абрикосы пахнут сказкамиШахерезады»…Сверкающим
разноцветьем врезается роскошная картина донского базара. Что-то гоголевское,
идущее от Сорочинской ярмарки, открывается в ней. Вот лишь некоторые зарисовки
этого экзотического мира: «От овощей и фруктов на прилавках рябит в глазах— горы,
разноцветные холмы. Тут и морковь, и дыни, похожие на тыквы, и тыквы точь-в-точь,
как дыни… Рубиновой чистоты вишни и чёрную смородину продают на баночки.
Яблоки с зеркальным отливом — пепин, шафран, белый налив — на ведра… Винным
зноем дышат виноградные кисти, горки малины и земляники…Дальше круглые, тол-
стогубые чушки-сазаны с чешуёй в пятак величиной, серебряного литья цимлянские
чебаки, утконосые серые щуки, иные с колоду размером…» За всем этим, несомненно,
встаёт богатство и красота родного края. В них и радость, и грусть, но более всего
— безмерная тревога, выводящая романы за границы бытописательства.
Оттого диапазон видения писателя широк и многогранен. История и совре-
менность взаимодействуют постоянно. Вот мягко с огромной скоростью мчится
















