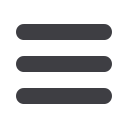

131
ÄÎÍ_íîâûé 13/1
няется всеобщим неблагополучием мира, которое видится неумолимым грядущим
жестокого «кочевья».
В январе 1917 года М. Цветаева пишет стихотворение «Мировое началось во мгле
кочевье...». Оно звучит как предчувствие надвигающихся катастрофических перемен.
(Позже в письме от 4 апреля 1933 года Ю. Иваску она напишет: «Я всё знала — от-
родясь».) Приём семантического варьирования, ставший ведущим в её творчестве,
в этом стихотворении приобретает особую подчиняющую силу. Его первая строка
определяет первый инвариант мирового апокалипсиса; все последующие развивают
глобальный образ, где человеческая судьба—«ничто» в разрушающем потоке всемир-
ной истории. Оттого так безнадёжно трагичны заключительные строки: «Это реки
начинают путь — вспять! / И мне хочется к тебе на грудь — спать». Но очень скоро
и этот кажущийся покой будет отвергнут. В августе 1917 года М. Цветаева пишет: «И
на грудь, где наши рокоты и стоны, / Опускается железное крыло». Возникает новый
инвариант возможной душевной гармонии: «Только в обруче огромного закона / Мне
просторно — мне спокойно — мне светло». Но безбрежность «огромного закона»
в результате тоже окажется раздавленной жестокой силой «железного крыла». Л.
Аннинский по этому поводу замечает: «На всю жизнь М. Цветаева получает роко-
вой дар: ничто в её жизни не сбывается, не воплощается адекватно; всё существует
только в горячечном воображении и реализуется в горних высях; спускаясь к долу
— рушится». Ранее утвердившаяся антитеза «бессонница — сон» как вечные анти-
поды жизни и смерти в творчестве поэта всё более будет обостряться.
«Бессоннице» М. Цветаева посвятила целый цикл стихотворений. Но этот образ
вторгается и в другие её поэтические откровения, получая свой бескомпромиссный
вердикт как «правило» жизни:
Нам бессонница — не бремя,
Отродясь кипим в котле.
Так-то лучше. Будет время
Телу выспаться в земле.
Образ становится тем «инструментарием», который открывает по-новому при-
вычный и такой ординарный мир. После бессонной ночи «Целая радуга — в каждом
случайном звуке! / И на морозе Флоренцией пахнет вдруг». Ради этой красоты жизни
«зоркий сторож с колотушкой» неустанно призывает: «Не спи! Крепись! Говорю
добром! / А то — вечный сон! А то вечный — дом!» Однако соскальзывание в мир
призрачного сна всё-таки продолжается. Вначале — как предчувствие, как знак,
ведомый только лирической героине («И никто не видит по дороге, / Что давным-
давно уж я во гробе / Досмотрела свой огромный сон»); далее — как откровение
перед тем «идеальным» героем, в котором заключены все качества «рыцарства». В
этом плане стихотворения «По дорогам, от мороза звонким...», «Мировое началось
во мгле кочевье...» и «Только в очи мы взглянули без остатка...» сопрягаются как
своеобразное продолжение одно другого.
Отношение М. Цветаевой к смерти неординарно. В 17 лет она пишет стихотво-
рение «Молитва», в котором высказывает не только всеохватную любовь к миру, но
и парадоксальную для юности идею: «Люблю и крест, и шёлк, и каски, / Моя душа
мгновений след — / Ты дал мне детство — лучше сказки / И дай мне смерть — в
семнадцать лет!»
Она словно ведёт своеобразную полемику с «прекраснейшей из муз» Ахматовой,
противопоставляя её пророческому «посмертному узнаванию» («Издалёка, мальчик
зоркий, / Будешь крест мой узнавать») свою завещаемую безымянность, которая зву-
чит как заклинание, обращённое ко всему и всем: «Положите меня промеж / Четырёх
дорог», «Становись надо мной крестом, / Раздорожный столб!», «Высоко надо мной
















