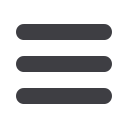

128
«Ãîëîñ ïðàâäû íåáåñíîé ïðîòèâ ïðàâäû çåìíîé»
самоуничтожении, слитыми с природой, любовью и болью, гневом и одиночеством»,
эта же страсть «разрушала её жизнь» — к такому обобщению приходит автор книги
о ней (Лили Фейлер. Марина Цветаева. USA, 1994. С. 10). Она рано почувствовала
себя самостоятельной личностью: не достигнув и семнадцати лет, одна отправляется
в Париж, чтобы прослушать курс лекций по старофранцузской литературе.
Её первые поэтические книги: «Юношеские стихи», не опубликованные при жиз-
ни, «Ночной альбом» (1910), «Волшебный фонарь» (1912), «Из двух книг» (1913)
— наполнены элегическими обращениями к матери; это драматический исход «не-
дополученного» тепла души родственной и жаждущей сопереживания («И матери
каждой, что гладит ребёнка, / Мне хочется крикнуть: «Весь мир у тебя!»). Вероятно,
эта душевная «недополученность» немалую роль сыграла и в появлении уже в раннем
мире поэта романтических кумиров, исполненных мятежного духа и героического
протеста: Ростан, княжна Джаваха, герои Отечественной войны 1812 года, Мария
Башкирцева, лейтенант Шмидт. Портреты Наполеона и его сына («Орлёнка») висели
на стене в её комнате вместо икон.
Н. Еленев, впервые встретивший М. Цветаеву за год до начала войны 1914 года,
в её бытовом устройстве увидел абсолютное отсутствие «земной косности», а о
поэзии писал: «Её творческий дар выходил за пределы художественной мысли и
мировосприятия данной эпохи. Этот дар не был похож ни на женское повседневное
возможное обаяние, ни на гедонистическое переживание извечного зова красоты.
Строй форм и строй идей... открывал непочатую новь» (Н. Еленев. Кем была М. Ц.?
// Грани. 1958. № 39. С. 141–142).
Бунтарский дух очень скоро ворвался не только в стихи М. Цветаевой, но стал и
жизненной позицией: «безбожие» открылось как ошеломляющее откровение, а поли-
тика была отринута на всех уровнях. «За власть я в мире не борюсь», — скажет она в
стихотворении «Идите же! —мой голос нем...», а в письме В. Розанову 7 марта 1914
года напишет: «Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда
безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы молиться и
покориться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить»
(М. Цветаева. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 6. Письма. С. 120). В стихах со всей пря-
мотой души она будет утверждать: «Заповедей не блюла, не ходила к причастью».
Обращает внимание и то, что с самого начала и до конца мир творчества М. Цве-
таевой не имеет ни географических, ни этнических границ: он — поэтический и
определяется мерой творческой энергии и любящей души («Моя родина везде, где
есть письменный стол, окно и дерево под окном», — заметит она Е. Тараховской).
Этот гражданский универсализм со временем будет меняться. Рядом со скептиче-
скими строками: «Мне совершенно всё равно — / Где совершенно одинокой...» по-
явится страстная горечь признания: «Россия, моя Россия, / Зачем так ярко горишь?»
(С. 461). Но это произойдёт уже вдали от родины, в период эмиграции в Париже, а
до 1922 года, времени отъезда за рубеж, всё в её творчестве предельно обострено,
глобально раздвинуто, границы пространств и времен сопряжены. Неизменным
останется лишь мотив «бездомья», независимый от времени. Особенно рельефно
он начнёт звучать в цикле «Стихи о Москве» (1916), в которых Первопрестольная
объявляется «огромным странноприимным домом», объединяющим всех сирых и
обездоленных: «Всяк на Руси — бездомный. / Мы все к тебе придём». Именно это
чувство бесприютности и единения вокруг столицы рождает идею высокой любви и
священной трепетности: «И льётся аллилуйя / На смуглые поля. / — Я в грудь тебя
целую, / Московская земля!»
М. Цветаева постоянно обращается «через сотни разъединяющих лет» и вёрст
к легендарным кумирам души и сердца так, как будто они совсем рядом и с ними
можно вести диалог о времени и тайнах творчества, как, например, с Байроном или
Державиным («Я думаю о полутёмном зале, / О бархате, склонённом к кружевам, / О
















