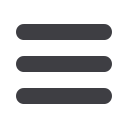

130
«Ãîëîñ ïðàâäû íåáåñíîé ïðîòèâ ïðàâäû çåìíîé»
—беззаконницы, чернокнижницы, бродяги, «родства не помнящей», нищей царицы,
острожника, рвущегося в последний миг вдохнуть желанную волю даже на условиях
смирения и покорности:
Уж и нрав у меня спокойный!
Уж и очи мои ясны!
Отпусти-ка меня, конвойный,
Прогуляться до той сосны!
Сотворённый мир М. Цветаевой объединяет самые разнообразные «персоналии»,
попадающие в сферу её обозрения. В нём нет разделения на «судимых» и «несуди-
мых»: все и всё, включая и лирическую героиню, подчинены и подотчётны единой
Высшей воле. При этом свой грех она не отделяет от людского. Но все её обращения
направлены не к Богу, а к земле, населённой страстями и радостями человеческого
рода, с его греховностью и неординарностью:«Господом данными мне чувствами
— всеми пятью». Оттого так экспрессивны и откровенно пронизывающи поэтиче-
ские строки:
...Вы, сопреступники! — Вы, нежные учителя!
Юноши, девы, деревья, созвездия, тучи, –
Богу на Страшном суде вместе ответим, Земля!
Эта любовь всеохватна, огромна и жгуча, — нередко жертвенна. Всё в ней — на
крайнем пределе, как в последний миг уходящей жизни. «Я тебя отвоюю у всех
земель, у всех небес, / Оттого, что лес — моя колыбель, и могила — лес». Порою
она воспринимается как страстная «сверхмечта», красивый, мелькнувший и усколь-
зающий миф:
Кабы нас с тобой — да судьба свела –
Ох, весёлые пошли бы по земле дела!
Не один бы нам поклонился град,
Ох, мой родный, мой природный, мой безродный брат!
Дважды повторенное «ох» заключает различные смыслы. «Мажор» первого
момента вдруг обрывается безнадёжно скорбной нотой, варьирующей неоднознач-
ность корневого слова «родный»: близкий по духу, в то же время определяемый и
как абсолютно идентичный («мой»), но без роду и племени, связанный неразрывно
«со мной» «древом» человеческой жизни. Мятежный призыв: «Я кабацкая царица,
ты кабацкий царь. / Присягай, народ, моему царю! / Присягай его царице, — всех
собой дарю!» — оборачивается романтической поэтизацией души, страстной и
бунтарской, приносящей в жертву целую жизнь земных наслаждений ради одного
желанного мига: «Нагулявшись, наплясавшись на земном пиру, / Покачались бы мы,
братец, на ночном ветру...»
М. Цветаева создаёт такой живописный образ лирической героини, который
близок не только изобразительному портрету, но и кинематографическому, так он
динамичен и раскалён: «Мои глаза, подвижные, как пламя»; «Два солнца стынут...
Одно — на небе, другое — в моей груди»; «Я уронила на руки жаркий лоб»; «Раз-
метались кудри, разорван ворот — / Пустота! Полёт! / Облака плывут, и горящий
город / Надо мной плывёт». Более того, выявляется глубоко потаённое внутреннее
состояние: только на рентгеновском снимке можно рассмотреть, как «...в ночи моей
прекрасной / Ходит по сердцу пила». Истоки мятежного чувства она пытается от-
ыскать в корнях своего генеалогического древа («Бабушка! —Этот жестокий мятеж
/ В сердце моём — не от вас ли?..»). Но, как правило, всё это со временем ослож-
















