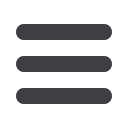

106
Êðàñíûå îãíè
— О деньгах я знаю.
— Тогда чего мне голову морочишь?
Нет, это невыносимо, когда тебя не понимают. Не хотят понимать! Что-то
там не сработало в их механизме, и эта несработка лупанула по мне.
— А дни? Две недели?..
Лейтенант протяжно посмотрел на меня. От его лица повеяло глубокой
осенью.
— Будешь таким шустрым, в части быстренько схлопочешь суток десять,
тогда и отдохнёшь. Ишь ты, заморился!
— Я…
— Идите... — Голос его стал сухим, официальным. Он сделал вид, что
сильно занят, склонился над картотекой, потом прихватил какую-то бумагу
и вышел, прихлопнув за собой обитую чёрным дерматином дверь.
Прав я или не прав? Кто его знает? Может, это только россказни какие
— две недели? Он это знает, но показал мне кое-что округлённое.
Дальше выяснять было просто бессмысленно. Не станешь же умолять,
выпрашивать, падать в обморок и доказывать, как тебе это нужно? Так,
значит, так...
Тогда я ещё не ведал, что прошла уже та минута, с которой мне необходимо
было получше помнить о моих личных долгах и обязанностях и побыстрее
забывать о всяких там правах...
Я вышел на улицу, и всё вдруг в городе заговорило о скором расставании.
Я вспомнил, как в Ростов неспешно пришла осень, медленно срывая листву
с деревьев, купая в прохладных солнечных лучах серебряные нити паутины,
летящие невесть откуда, как один за другим уходили в армию мои друзья и
сокурсники, а меня почему-то всё не трогали, как сам осваивался на работе
и снова ждал писем от Ларисы, каждый день откладывая встречу. И вот всё
позади. Теперь оно ясно и точно, как приказ. Облегчение? В первую минуту
— да, но потом... Ведь город напоминал, кричал каждым камнем, каждым
изгибом тротуара, любой оголённой веткой. Дома, Лендворец, вокзал, трамваи
и даже галки на изогнутых клёнах в сквере — всё твердило: это надолго, на
неизвестно сколько, на вечность, навсегда... Оставались одни сутки, а точнее
— двадцать часов.
В знак протеста за пропавшие две недели я не постригся.
Потом я увольнялся, подписывал обходной, слушая на ходу напутствия,
ждал денег у кассы, мчался домой, обежав по дороге нескольких друзей и
знакомых—все, чрезмерно удивляясь, ахали, поздравляли, точно меня брали
сразу генералом, а затем почему-то начинали утешать, будто я им жаловался.
А я не слушал, я бежал дальше. Дома ахнули родители, и пришёл их черед
бегать — вечером нужно было принимать гостей.
Иногда сквозь всю эту суету в моём сознании возникало лицо Ларисы,
грустное и немного растерянное, — таким, казалось мне, оно будет, когда
Лариса узнает о моём призыве, о том, что встреча наша снова переносится,
— меня отвлекали, и лицо исчезало, чтобы скоро появиться вновь. Это было
похоже на тяжелый сон, о котором будто бы и не думаешь, но который никак
не выходит из головы. Я послал ей телеграмму, но кажется, это было ещё хуже
— она уже ничем не могла нам помочь, к тому же — ничего не объясняла.
















