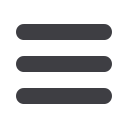

85
ÄÎÍ_íîâûé 13/1
сказе. Например, откуда Анчута узнал о второй пуговице и почему не потребовал
её у меня самого?
Горько было расставаться с пуговицей, но я и не подозревал, что горшее впереди.
Потеря талисмана ещё не потеря дружбы, утешал себя я, но несправедливость отрав-
ляла существование, и когда я увидел на гроссмейстерском плаще, сооружённом из
каких-то домашних обносков, «наши» пуговицы, я не выдержал и, не соображая,
что делаю, крикнул:
– Гад ты, Анчута! Зачем отнял?
Тот глаза выпучил.
– Ты что, малявка? А ну повтори. Кто тебя подучил?
Ему и в голову не приходило, что я мог решиться на это сам.
– Никто меня не учил. Зачем отнял пуговицы?
Анчута снова изумился.
– Я? Отнял? Ты что, псих?
– Это наши пуговицы, – шёл я на подвиг, на самосожжение.
– Какие ещё ваши? Были ваши, стали наши. Мне их один малявка притащил.
– Врёшь! Отнял.
Мысли Анчуты двигались медленно, но в нужном направлении. Наконец он по-
нял и захихикал утробно.
– Ну чудик, ну чудик... Сам он мне принёс. Ну хочешь, побожусь. Я про них и не
знал... Принёс, говорит – возьми себе на плащ. Подлизаться хотел, чтобы заступался
я за него. А ты дурак какой!
Подвига не получилось. Земля разверзлась под ногами. В последний момент я ещё
получил по шее увесистой палкой с перекладиной, заменявшей Анчуте тевтонский
меч. Но я даже не осудил его. Не мог же Анчута быть бесконечно благородным и
простить мою наглую вылазку! Он очень дорожил своим авторитетом. А я получил
по заслугам.
С другом я предпочёл не объясняться. Но ночью не спал. Не спал, лежал, скрю-
чившись калачиком, и смотрел на озарённую отражённым светом никелированную
шишку. Ночь снова была лунная, но я этим ничего примечательного подчеркнуть не
хочу. Совпадение, не более. К лунному свету я отношусь, как большинство людей, и
по карнизам с закрытыми глазами не хожу. Просто, повторяю, совпало, что оба самых
сильных моих детских переживания пришлись на светлые ночи, и запомнилась мне
эта никелированная побрякушка, уловившая часы из вселенной. Может быть, теперь
я увидел бы в ней какой-то символ, единство бренного с вечным, приходящим из
неведомого. Но тогда, понятно, не философски мыслил, по-детски сердечко болело,
предчувствуя, что жизнь только предупреждает о горькой сути своей.
Конечно, я не сопоставляю эти происшествия со смертью деда; просто думается,
что между взрослой и детской жизнью разрыв шире, чем нам кажется, и оценка про-
исходящего у тех и других разная. И снова скажу: в этом вижу мудрость природы.
Иначе детям двойную нагрузку нести бы пришлось – свою и взрослую. А смерть
деда при всём том, что касалась она меня непосредственно, тяжестью ложилась на
взрослые плечи, к их миру он принадлежал, а я уже к другому, который сегодня, в
свою очередь, для молодых день прошедший. И если бы был у меня внук, не хотел бы
я, чтобы слёзы проливал он, со мною расставаясь, но нет у меня внука и не будет...
Ида и другие
Друга, которого я хотел повидать, звали Яков. Работал он в редакции газеты, носил
очки, был толстым, спокойным, одним из немногих людей, понимающих своё место в
жизни и не тяготящихся им. Когда я поднялся по узкой лестнице старинного особняка,
где помещалась редакция, и, читая таблички на двух языках, нашёл нужную комнату,
Яков сидел за столом, заваленным газетными гранками и ещё не набранными матери-
















