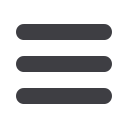

74
Íåèçáåæíîñòü
рук. Остановилось всё, и понял я вдруг, что колокол звонит по всем нам, а не только
по тем, кого мы, вернувшись с кладбища, с пьяной слезой поминаем.
Короче, я теперь, в отличие от многих, знаю, что жизнь конечна. А собственной
жизни и вовсе осталось почти ничего. В пятьдесят лет с больным сердцем трудно
пробиваться в долгожители. И зачем? Профессия моя – писатель. Многие мои собра-
тья – или недруги – по перу нашим занятием гордятся. А я нет. Я не тщеславен. Я
давно усвоил две истины. Во-первых, литература не делает людей лучшими, чем они
есть. Иначе как могло разразиться кровопролитнейшее из кровопролитий в так назы-
ваемом цивилизованном мире после Толстого и Чехова? А я – это второе и главное
– не Чехов и не Толстой, я ординарный член союза писателей, которого в лучшем
случае издадут пару раз после смерти в порядке официальной благопристойности и
забудут в очередном поколении. Конечно, как и каждый одолеваемый писательским
зудом, я тоже мечтал о «главной» книге. Иногда эти сны возвращаются, и тогда я
стараюсь поскорее проснуться.
Чаще я думаю о прошлом. Вот и в этот рассветный час, наливая вторую рюмку,
я вспомнил светлый день и тёмные тени на большом столе во дворе под навесом из
винограда, выбеленную стену дома, крытого блестящим оцинкованным железом,
запах яблок, нарезанных на сушку, красные помидоры, выпотрошенных раков и
пивную пену на клеёнке в мелких жёлтых цветочках и, конечно же, людей за столом,
двенадцать человек – взрослых, стариков и детей. Семья моего деда, мой первый и
самый счастливый мир.
Этому воспоминанию больше сорока лет. Оно из самых ранних, маленькая тёплая
звёздочка в галактике клеток, населённых воспоминаниями, но иногда она по зако-
нам астрономии вспыхивает, как пульсар, и тогда на душе становится беспокойно и
смутно: было ли всё это – и запах яблок, и люди, полные надежд и забот?
Вопрос, конечно, риторический. Они были, а кое-кто ещё и сейчас жив, например
моя двоюродная сестра. Живёт она в Москве, работает в литературном архиве, вы-
читала там всю подноготную известных писателей, а меня, малоизвестного, лично
знает, и потому мнения о нас невысокого. Она худа, много курит, но к пьющим от-
носится враждебно и из всех живых существ предпочитает кошек. Мы с ней совсем
не понимаем друг друга и видимся крайне редко. Она не верит, что я давно не пью, и
время от времени присылает мне вырезки из газет о пагубном воздействии алкоголя.
Трудно представить, что эта жёлчная, красящая редкие седые волосы особа была
когда-то пухленькой девочкой с толстой рыжей косой, которая убеждённо уверяла
меня, что муравьи могут превращаться в крошечных добрых волшебников. Впрочем,
она и теперь, кажется, верит в переселение душ…
А я не верю. И не хочу перевоплощаться не только в жабу или вьючного осла,
но и в самого замечательного из людей. Даже в директора гастронома не хочу. А уж
тем более снова в писателя. Мне всегда стыдно встречаться с читателями. Я завидую
фокусникам. Ведь если фокусник даже самого настоящего кролика за уши из цилин-
дра вытащит, все знают, что это фокус, иллюзия. Писатель же выдумку напишет, а
люди её за правду жизни принимают, считают автора знатоком души человеческой.
Стыдно. Конечно, я не вру сознательно. Больше того, когда пишу, верю, что честно
пишу и правдиво, а вот перечитаю – и стыдно… Жвачка, прописные истины – од-
ним словом, пошлость. Новый наряд короля или Тришкин кафтан, шитый белыми
нитками домыслов. А как может быть иначе? Знаю ли я хоть самого себя? Или о тех
двенадцати, с кем меня жизнь со дня появления на свет связала, что я знаю? Кого из
далёкого прошлого вижу? Ведь для человека другие люди, даже самые близкие, а
часто именно они, за семью печатями. Они лишь окружают нас, чтобы мы их люби-
ли или враждовали с ними, чтобы они о нас заботились или мы о них; нам хочется,
чтобы им было хорошо или плохо. Но вот узнать их, узнать не для того, чтобы помочь
















