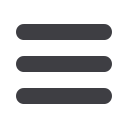

73
кается с прошлым, давним и недавним, напоминает о встречах с людьми близкими
и далёкими, побуждает сопоставлять события, отдалённые друг от друга как
исторически, так и географически. Память Игоря, пожалуй, сильнее, чем хотелось
бы ему самому, воздействует на его поступки, она же главенствует и в его оценках
поведения других персонажей романа.
Читатель, знакомый с творчеством П. Шестакова, может быть, испытает
некоторую ностальгию по остросюжетности, свойственной этому писателю. Но
хочется надеяться на то, что он будет вознаграждён участием в открытии других,
не детективных истин, связанных непосредственно с душой человека.
Старый дом
Двадцать второго июня, в понедельник, я проснулся в четыре…Да, в понедельник.
Я не оговорился, речь идёт о годе тысяча девятьсот восемьдесят первом, а не о том,
когда началась война. Я проснулся, вышел на кухню и выпил рюмку водки, глядя в
белёсое рассветное небо. Я отмечаю этот день не потому, что я ветеран. Сорок лет
назад в четыре утра я крепко спал, мне было всего девять с половиной, а город наш
расположен за тысячу с лишним километров от границы. Двадцать второе июня я
считаю своей личной датой, так сказать, рубежом сознательной жизни. Не спрашивая
меня, тот, кто сбросил первую бомбу, перевёл стрелки моих часов рывком вперёд.
Я спал и не знал, что моё детство только что кончилось и всё «до» этого часа оста-
нется в памяти моей разорванной цепочкой разновеликих понятных и непонятных
случаев и событий, а всё «после» выстроится в столбовой путь, которому, как мне
долго казалось, конца не будет, а он вдруг оборвался, и дальше уже жизнь потекла
без времени. И течёт до сегодняшнего дня, круглой даты, по случаю чего я и позво-
лил себе рюмку водки.
Теперь я пью редко. А раньше пил, хотя и умел держаться в рамках, себя не терял.
Много пил перед тем, как жизнь обошлась со мной круто, и после того. Вначале от
радостного неведения, потом, как говорится, с горя. А потом понял, что бесполезно
это, и перестал. Именно перестал, а не бросил. Теперь я, когда совсем невмоготу
становится, занимаюсь психотерапией, заставляю себя думать о чём-нибудь отвлечён-
ном. Отключаюсь и думаю, например, о Саудовской Аравии. Знаю я об этой стране,
как и все, мало, – пустыня, нефть, куча денег, процветают. Но я не мусульманин, в
дар аллаха не верю и потому думаю, что за свой золотой дождь им сполна платить
придётся. И тогда становится жалко бедуинов. А иранцев уже не жалко. Я хоть и отно-
шусь к жизни нелицеприятно – имею такое право, – но стараюсь быть объективным.
Ведь если считается, что мы сами кузнецы своего счастья, то уж бед-то – наверняка.
Счастье штука хрупкая, а молот кузнечный тяжёлый. Им с умом размахивать нужно,
а ум редкость, хоть на недостаток его никто не жалуется. Так уж устроены. Каждый
по десятку дураков лично знает, а намекни на самого – обидится: «Я-то не дурак!»
Да что дураки! Даже смертными себя не сознаём. То есть осведомлены, и в книжках
читали, и самим случалось слышать, как последний гвоздь в крышку вколачивают,
а себя под крышкой представить не можем…
Ничего плохого в этом, конечно, нет. Напротив, великая сила жизни…Ну что бы
с нами было, если бы этот последний стук вечным колоколом в ушах звенел? Руки
бы с молотом опустились. Вот мудрые силы, нас не то из глины, не то из обезьян
создавшие, и отрегулировали генетические цепочки, чтобы, правду не скрывая,
сделать её недоступной нашему осознанию. Спасибо, конечно, но не перегнули ли
создатели, зашорив нас, как пугливых лошадей? Ведь не в манеже по кругу бегаем,
а по пересечённой местности да ещё и счастье куём на ходу; глядишь, и не туда
удар придётся – у кого случайно, а у кого и нет… Так и я полпути пробежал, пока не
услышал хруст собственного позвоночника; потемнело в глазах, и выпустил молот из
















