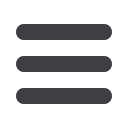

130
Êðàñíûå îãíè
выше шапки, на ногах валенки, на плече самозарядный карабин Симонова №
ЗА-159. Караул. Я прохаживаюсь по натоптанным дорожкам вокруг учебного
корпуса в серебристых дождинках звёздного неба, отражённого льдистым
снегом света, по мне перекатываются корявые тёмные тени голых ветвей
деревьев.
Пост сторожевой, особого внимания не требует. Хотя по уставу... не пить,
не курить, не отвлекаться... По всей школе пустынная тишина, только заво-
зятся порой у столовой кухонные приживалки, общие любимицы собачонки
Сержант и Шпак, и снова тихо, скрипит только замёрзший снег под ногами,
а кругом красотища, и до смены ещё больше часа.
Я смотрю в ночное небо сквозь лиловые ветви вербы, и мне хочется
чего-то такого, необычного и радостного, чтобы пела душа. Чувствую, как
рождаются, выступают из неё—души—какие-то фразы, я пробую сочинить
стихи, хоть по уставу это совсем не положено.
Занятие это старо, как мир, и, наверное, каждый, кто в состоянии хоть
что-то чувствовать и понимать, когда-то пробовал в нём свои силы. Стихов
написано много, хороших и плохих, но ведь, то чужие стихи, чужие пережи-
вания и мысли, а мои чувства, мои думы — это только мои, они огромны и
единственны, остры и ни на чьи не похожи, они требуют фонтана слов.
Пять четверостиший сложились совсем легко, даже запросто: об этой
ночи, важности моего занятия и моей бдительности, о Родине и её частичке
— Ларисе и, конечно, о нашей любви. Я был очень доволен. С ходу приду-
мал ещё два стихотворения, теперь уже только о Ларисе… И тут, совсем
некстати, меня сменили.
Наутро незаписанные, подсинённые сном стихотворения частично вывет-
рились из моей головы, а остальное?! Я глянул на свои творения другими
глазами и пришел в ужас. Остальное было избитым, давящим стандартнос-
тью фраз, чехардой местоимений и союзов, —пляшущим несоразмерностью
строк. А главное, стихотворения ни о чём не говорили. Ни о чём!
Я впал в уныние. Почему-то вспомнились стихи любимых поэтов, и мне
стало стыдно. Нет, не за свои корявые строчки — за лёгкость восприятия
и глупую радость. Одно было простительно: всё я увидел сам, сам во всём
разобрался.
Позже, уже в полку, у нас был эскадрильный поэт Витька Агеев. Он писал
очень плохие стихи, повсюду совался с ними, читал на вечерах, помещал в
боевые листки, отсылал в окружную газету — везде, как говорится, во весь
голос, нахраписто, с осознанием своей гениальности. Иногда и непонятно
почему его стихи даже появлялись в газете, кто-то из далекого от литературы
начальства без понимания хвалил их, он багровел от важности и на радостях
писал стихи ещё хуже. Всё это было плохо, даже очень скверно, он не видел
своих стихов и, бездумно поддержанный случайными людьми, считал себя
настоящим поэтом, в мыслях уже витал где-то рядом с великими. А нам было
жалко его — его ждали только горечь и разочарование.
Но о той, своей вдохновляющей ночи я предпочитал помалкивать.
















