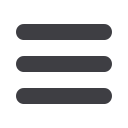

92
Íàòàëüÿ Ñóõàíîâà
и розовые… Ах, да всё розовато было, даже собранные в щепоть крохотные
листочки! А уж всего розовее были выпятившиеся надрезанными кругляшками
цветочные почки. И пахло, пахло всё это — нежно и чуть горьковато. Я сказал
— «всё пахло», и можно подумать, что это был ровно растворённый в воздухе
аромат. Так нет же. Аромат, как нимб, каждый своё дерево окружал.
Маленькие тополя в зелёной молодой листве безмерно, упоённо ею сверкали.
Большие же тополя листве волю не давали, они полнили широкое пространство
вокруг густою россыпью бурых и красных серёжек, и небо вокруг них, как свет
вблизи звёздных масс, изгибалось — у них было своё небо, как, может быть,
было оно и у каждой жердёлы, каждой вишни и даже у каждого тюльпана, уже
поднявшего алое своё копьё над наивно-торжественной и простой розеткой
длинно-широких листьев.
Я увидел всё это подробно — это и многое ещё; я ощутил мягкую, влажную,
но уже не пачкающую ботинок землю под ногами, хотя посреди улицы были
ещё лужи. Я увидел прелестный земной мусор, —маленькие лепестки в каждой
ложбине дороги вперемежку с длинными клейкими почками тополей, сухие
ветки, старая и новая трава, распластанные терпеливые, как самозабвенные ро-
дители, листья одуванчика. Гудению пчёл и пению и щёлканью птиц открылись
мои уши. Какое-то чувство не просто общности, — открытости нас друг в друге,
мира и меня, возникло вдруг. Казалось, ещё секунда, и я сольюсь со всем этим
и что-то пойму.
Да, вот так примерно это ощущалось — что ничто не мешает мне войти во
всё это, потому что двери открыты, все двери открыты, не для меня, а просто,
такой уж вот день; все двери открыты, и мои тоже. И если что-нибудь и мешает
мне выйти из одной двери и войти в другую, то разве что страх, страх неумело-
сти. Так отвыкший ходить не знает, как сделать шаг и не упасть. Хотя все двери
открыты. Или как не уверен слепой до этого человек, только что прозревший,
то ли он видит и так ли. Величайшая растворённость во всё, величайшая раство-
рённость мира во мне и в то же время какая-то неуверенность и осторожность,
— вот так, да, так это было.
Но это я, а ведь суть была не во мне, а в этом мире. Всё пушилось и увеличи-
валось в числе, всё проникало вокруг в воздух и свет. Всё пахло, всё говорило
внятно о своей особенности и нежности. Мелкое зеленело, высокое цвело. Во
дворе молодой отец прижимал к себе дитя в кружевных, раскрытых простынках;
эти простынки, кружева были вокруг его прижимающих рук упруго отогнуты на-
зад—как лепестки, как крылышки. Кружевными пелёнками, крылышками были
отогнуты лепестки цветов вокруг пушистых, упруго растопыренных тычинок.
Только что раскрывшиеся листья вишни были желтоваты и пупырчаты. Гудение
пчёл, упорно повторяющиеся трели птиц—они тоже были как бы материальны,
вещественны, объёмны. Каждая точка пространства извергалась мирами, и све-
жие, упругие эти миры не меньшели от соседних, упругих и сильных, а множили
пространства, рождали для себя пространство и время. И не от слабости, а от
щедрости и силы переливались друг в друга.
Восторг, экстаз —но неожиданный и даже пугающий. «Не МДП? —думал я.
—Не маникально ли депрессивный это психоз? Не нарушится ли у меня коорди-
нация движений?» Но я шёл так же свободно и правильно, как и до этого…
Не оттого ли, спрашиваете вы, возник восторг, что я шёл к
ней
? Напротив, это
стало для меня вдруг не так уж и важно. Мысли мои влеклись совсем в другую
сторону. Я уже не думал и о том, что свихнусь. Я озирался в восторженном удив-
лении. Но... перегородки ли томили меня, которые всё не рушились, собственная
















