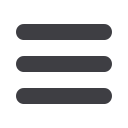

91
ÄÎÍ_íîâûé 13/3-4
однажды. Я знал, что не с самого начала иду, но линия, в какую бы сторону
она ни продолжалась, уже была линией, костяком мира. В ровные квадратики
с перемычками — уже квадратики, помню, мне нравилось делать очень тонко
и ровно — я поместил последовательно «элементарную частицу», «кристалл»,
«молекулу» и прочее. Над «живой клеткой» восходила вертикаль — «жизнь»,
«человек», «общество». В этом месте я, правда, посомневался, что выше: «чело-
век» или «общество». Понадобилось даже волевое, я бы сказал, волюнтаристское
усилие, и — повернул всё же! Не помню уж, что над чем. А дальше совершенно
ясно: «сверхсоциум». И — свершилось: тут — мир, тут — я, владеющий. Весь
мир, собранный в горсть. А потом, что бы со мной, лично со мной, ни было, но
это уже есть. Было и будет. Да, стоило схему нарисовать, и я уже как бы вла-
дел Вселенной. Больше, чем владел. Она уже была несущественна, поскольку
определена и предопределена... Был ли это восторг? Да нет. Скорее — гордое,
горделивое удовлетворение, как бы успокоение, что всё идет, как надо, и моя
тоска несущественна. Возможно, даже и тоска-то, думалось мне, от того, что я
вижу так далеко вперёд, а мелкая действительность, как болото, держит меня,
не давая заглянуть в сам этот сверхсоциум, в это слияние, в это «а-а-а!», в эти
заключительные бессмертие и вечность.
Вот такие были мои юношеские дела. Не то чтобы тоска шла сплошняком и
ступить шагу не давала. Нет — и девочки мне нравились, и школьные успехи
тщеславно вкушал я, и копать огород родителям помогал, и к старшему умному
брату тянулся, и меньшему брату, обожавшему меня, покровительствовал. Всё
— не выбиваясь из общего деловитого ритма. Не без того, конечно, что изредка
остановишься от парализующей тебя тоски, но тут же, как больной за таблетки,
начнёшь хвататься за слова: «Что?.. Что такое?.. Да, — жизнь, быт... Но... есть
восходящая... И... сверхсоциум». И даже попробуешь представить его, если не
зрительно и умственно, то вот этим «а-а-а!» Получится — значит, подскочишь и
вдвое быстрее задвижешься. Не получится—начнёшь вытягивать себя за волосы
из болота: мол, хоть и не представить, а есть, будет и... стойкость и мужество!
Была, наконец, и любовь — умопомрачительная, со стихами и балдением
возле
неё
, с
её
полувосхищением, полуснисходительностью к моей неординар-
ной личности.
И вот... шёл я однажды к
ней
от электрички. Можно было к их дому ездить
и трамваем, но электричкой было быстрее, и, к тому же, словно переносило
меня в некую отдалённость и давало возможность внутренне подготовиться к
встрече. Шёл я от электрички знакомой дорогой по немощёным улицам, ещё в
лужах ночного дождя, но уже быстро подсыхающим от ясного весеннего солн-
ца. Шёл вдоль заборов и штахетников. Довольно рассеянно шёл — не то думал
о чём-то, не то смотрел вокруг. Но невнимательно. Так, поглядывал. Когда я
поднимал взгляд вверх, то веток на деревьях вдоль дороги, особенно мелких,
узких веточек, казалось вдвое больше, чем зимою или поздней осенью. Улица
шла по склону холма, и тут и там на холме, возле домов, и в огородах, и вдоль
улиц розовели цветущие жердёлы. Слабее, рассыпаннее, но белели уже и вишни.
Цветущие ветви свешивались через сплошные заборы, просовывались сквозь
штахетник. Взгляд мой задержался на цветущей, чуть не задетой мною ветви
— и так сильно вдруг всё увиделось! И пушистые от тычинок маленькие цветы
с мелкими неправильностями: то мал и кривоват лепесток, то тычинка не вполне
тычинка, а как бы даже и лепесток, и отогнутые книзу чашелистики тоже не то
чтобы ровно отогнуты. Тычинки жёлтые, но при другом повороте как бы уже
















