
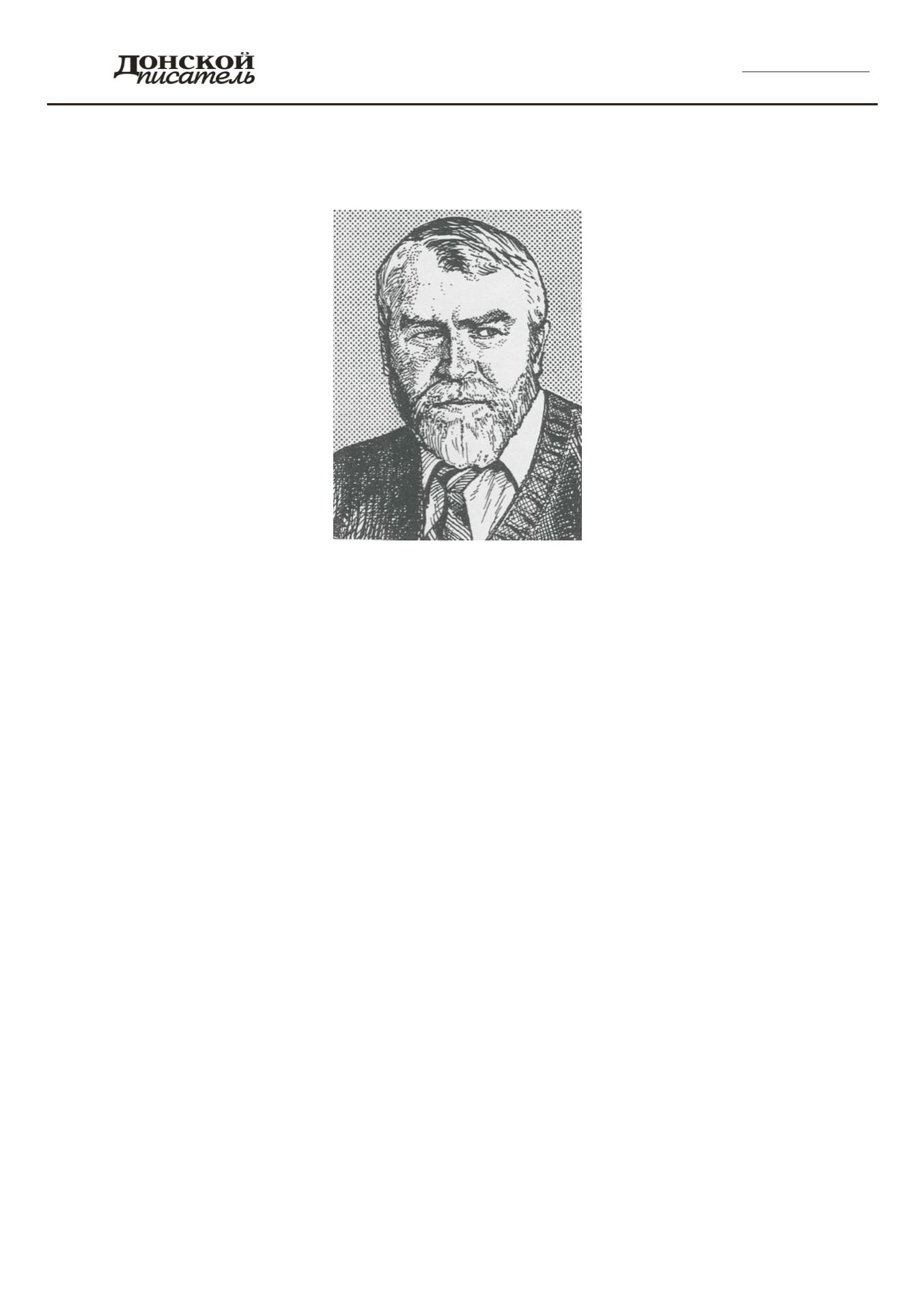
¹1-2 – 2015 ã
4
Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Лихое место
Приехали на рыбалку. Голый берег. И вообще, насколько
хватает глаз — ни деревца. Люся, очередная жена Сени Шев-
копляса, начала нудить: «Вот…привезли…Ни одной веточки.
Голову напечёт…»— «Зато рыбалка — закачаешься», —уте-
шает муж. Люся пуще прежнего: «Пекло такое…Не хочу! Не
могу!..» И день, и два…
Друг Сени, Петя Шейкин, не выдержал. Переправился в
лодке на другой берег, где рощица. Срубил тополёк, вернулся
к своему лагерю, воткнул в землю. Люся помягчела: «Ну вот,
хоть какой тенёчек!»
Едет на лошади местный Корнеич. (Он обычно доставлял
червячков, опарыша, приманку… В благодарность наливали
«сколько душа божает». Ну, и сами не брезговали, конечно).
Остановился перед деревцем, глаза трёт и сам себе: «Завязы-
вать надо, завязывать… Лихое место!»
Полтиннички
Был такой известный в Ростове фотокорреспондент—Коля
Овечкин. Шустрый, юморной, контактный. Любил и умел
подхалтуривать. Вшколах снимал выпускников, а также перво-
клашек и вообще — всех желающих…Оплата —наличными.
Пятьдесят копеек за «штуку». Когда приступал к работе или
просто встречал детишек на улице, гладил их головы и ласково
ворковал: «Ах вы полтиннички мои, родненькие!»
.
За себя, любимого
!
Долгое время в председателях Ростовского отделения Со-
юза писателей России пребывал Владимир Иосифович Фро-
лов. И поэт хороший, и человек душевный, и как чиновник
— на своём месте. Окончание литературных «корпоративов»,
бывало, сопровождал таким тостом: «А сейчас выпьем за само-
го прекрасного, за самого умного, за самого эрудированного,
за самого талантливого, за самого симпатичного…За неповто-
римого…— Писатели в ожидании имени адресата смущённо
опускали головы, подёргивали усы, пощипывали бородки. У
кого не было ни того, ни другого, — ужимали плечи, хрипло
покашливали. А Фролов, выдержав мучительную паузу, с
придыханием изрекал: — За меня, любимого!».
Не единожды «ломал» Владимир Иосифович эту комедь.
И ведь всякий раз ловились.
Менталитет
— Я четыре года прослужил в ГДР. Наша часть распола-
галась в одном небольшом аккуратненьком городке. Служба
была… Не служба, а натюрморт. За городом — лес, озеро,
речка. Ну и, само собой, — рыбалка, охота. А кто из нашего
брата, из офицера, не рыбак да не охотник?!
Поохотились мы как-то, порыбалили… В кузове — соха-
тый тёпленький, рыбы—на целый гарнизон. Во-от. Выкатили
из леска, перед нами — чудное озерцо. Остановились пере-
кусить. Младший комсостав ушицу варганит, а я в бинокль
местным ландшафтом любуюсь. Места и впрямь душевные.
Так и подмывает ещё порыбалить. По-нашински, конечно…
Неподалеку сидит один, видно, тоже по рыбке тоскует. Инте-
ресно стало, как это у них, у аборигенов, с эти делом…
Подгреб, наблюдаю из-за кустика. Камраду лет за сорок,
этакой бюргерской пивной фактуры. В шортах. На голове
шляпа с пером. Сам — в плетёном кресле, рядом — ящи-
чек с пивом. Достает бутылочку и булькает прямо из горла.
Спиннинг перед ним… Не успел допить — конец спиннинга
задергался. Вы думаете, он что, вскочил, как ошпаренный, и
давай катушку наворачивать?! Ничего подобного. Закупорил
бутылочку, вернул в ящик, вытер платочком руки, промокнул
губы и только после этого взялся за спиннинг. И так этот
спиннинг перед собой держит, и так катушку крутит, вроде
младенца баюкает. Картина, скажу вам… Я едва удержался,
матом не покрыл. А он выволакивает на берег рыбину, сни-
мает с крючка… И что делает дальше? В садок кидает? Куда
там… Допивает своё пиво, меряет рулеткой добычу… И всё
с растяжечкой, с вдохом-выдыхом. А она, добыча, лежит себе
смирнехонько, должно, тоже балдеет с того цирка.
Во-от. Вычислил параметры и в какой-то талмуд загляды-
вает. А потом… Поднялся-таки с кресла, взял улов… Опять
же как единокровного дитя, и обратно — в озеро. Я опять
чуть не сорвался, не заорал: «Что же ты творишь, фашист
недобитый?!». В карпе не меньше девяти кило… Вот такой
у них менталитет.
Мы сидим на прогалине, у заросшей чаканом и камышом
тихой протоки. Вечереет. В садке—сиротинками пара красно-
пёрок и колючий «ёршик. Ухи, на кото
рую так рассчитывали,
не будет.
— Будет, — читает наши мысли человек в камуфляже. Не
спеша закуривает, достаёт из рюкзака брусок, похожий на хо-
зяйственное мыло, подпаливает торчавший из него шнурок:
— Уши заткните на всякий случай.
Дорога в никуда
Мой тесть Антон Григорьевич Горожанкин — человек
необычайного трудолюбия и доброты — рассказывал. Конту-
женный под Сталинградом, он попал в плен. Потом пленили
немцев. И вот двумя колоннами, параллельно, гонят наших,
которые побывали у немцев в плену, и немцев. Охрана не-
большая, ибо и тем и другим деваться некуда. Стужа, сквоз-
ной ветер, заснеженная целина. Одёжка и у тех, и у других
— отрёпанные шинелишки, подбитые морозом. И вот два
Ãåííàäèé Ñåëèãåíèí
ÎÑÊÎËÊÈ
Миниатюры
немца, почти мальчишки, выходят из своей колонны, обнима-
ются… Один поспешает вперед, второй приотстает. Потом
они по людскому коридору разгоняются навстречу друг другу,
стукаются лбами… И падают замертво.
Соль
Умерла тётя Зоя. Прибыли наследники. Проводили в пос-
ледний путь. Всё справили честь по чести. Стали обследовать
ветхий курень, прикидывать последующее его назначение.
Заглянули и на палати. А там, укрытые разными ошмётками,
залежи соли. Соль и в пачках, и в стеклянных баночках, и в
мешках, и в корзинах… Почти целый грузовик.
У каждого по-своему оставила по себе память страшная
война и не менее тяжкие годы за нею. Помню голодное дет-
ство. У мамы от прежней городской жизни задержалась то ли
шуба, то ли доха (редкая по тем временам). И она променяла
её колхозной трактористке на два пуда муки.
Мама напекла пышек…Отощалым волчонком набросился
на неожиданный дар. И первый, и второй раз. А на третий не
лезут в горло. Хоть плачь — не лезут. Застревают сухим раш-
пилем. Есть хочется, аж кишки судорогой сводит, а не лезут. И
беда не только в том, что готовились на простой воде…Совсем
пустые они без соли! Казалось, что может быть важнее хлеба
для выживания?! И всё-таки…
Тётя Зоя умерла спустя тридцать лет после войны. И все
эти годы копила соль.
Книга света
Ты увидел «Весну света» и спросил: «Это и есть твоя
настольная книга?». «Да,— ответил я. — Для меня эта книга
не менее близка, чем «Книга жизни». По крайней мере, в ней
нет приводящих в отчаяние пророческих строк подобно этой:
«Я пришел к вам не с миром, но с мечом»… Только Свет… И
любовь к творениям Его.
Прости меня, Люба!
Утро. В автобусе —под завязку. Но терпеть можно. Думай
о лете, о синем море, белом пароходе и авось доберёшься
куда надо. Особенно если подфартило с сидячим местом. И
тут — обвальное:
— Люба, прости меня!
Автобус, привыкший и не к таким штучкам, «держит
лицо».
— Прости меня, Люба!
Похмельный синдром? С утра всё же не слишком забавля-
ет. Тем более что может изойти откровенной непотребщиной.
Голос-то… Явный перехлёст. Однако:
— Прости меня, Люба!
Надрыв, переходящий в отчаяние.
…Он подвигается от только что закрытой двери. Подвигает-
ся на коленях. Впереди, в двух шагах, уходит от него женщина.
Она делает вид, что для неё ползущий такая же фикция, как и
для остальных. Но остальные понимают, именно она причина
душещипательных воплей. При каждом словесном взрыде он
протягивает к ней руки.
Красива, молода ли женщина — не понять. Вижу её со
спины. Она — в зелёном пальто с начёсом, в надвинутой на
глаза вязаной шапочке. Неторопливо, с каким-то натужным
достоинством, пробирается по салону, как бы прокладывая
дорогу страдальцу.
— Прости меня, Люба!
Профиль его лица равняется с моим (я сижу в кресле). Про-
филь далеко не жалкого или опустившегося человека. Печать
искреннего раскаяния и той замкнутости на одном предмете
или мысли, которые делают и лицо, и глаза почти слепыми.
Человеку под сорок…
— Прости меня, Люба!
Я не выдерживаю:
— Она уже простила вас.
Он не слышит. Или не желает слышать. Мои слова не за-
девают и пассажиров. Видимо, прониклись: дело, может, и
похмельное, но совсем не шуточное.
— Прости меня, Люба!
Мужчины отворачивают головы. Похоже, этот отчаянный
вопль и сам статус человека, добровольно, прилюдно сокра-
тившего себя до автобусного настила, замызганного грязными
подошвами, задевают нечто сокровенное, потайное… У жен-
щин вызывающе сомкнуты губы. Все напряжены в ожидании
развязки.
Остановка. Вижу суетливо задергавшиеся подметки боти-
нок, затем — особенно истошное: «Прости меня, Люба!».
Скрипят, захлопываясь двери. Смотрю в окно. Мужчина
продолжает двигаться на коленях за неумолимо удаляющейся
женщиной в зелёном пальто (теперь уже по ноздреватой нале-
ди асфальта). В безнадёжной мольбе — тёмная впадина рта.
Дупло
Увидел пенёк. Решил присесть отдохнуть. Когда подошёл
ближе, пенек оказался ничего себе — обхвата в полтора. Пало
дерево не от какого-то буйства природы, а было срезано рукой
человека. Аккуратно, словно под гребёнку. Не торец, а загля-
денье, если бы…
Вместо плотной сердцевины, украшаемой кольцами про-
житых лет, пустота. На дне — смятые сигаретные пачки, пла-
стмассовые бутылки, бумажные стаканчики, цвёлые останки
хот-догов и прочие плоды цивилизации. Явно, дупло служило
мусорником. Стенки внутри, как в заброшенном сарае, обшар-
панные, в серо-зелёных струпьях... Обошёл. Кора ещё сохра-
нялась, но признаки распада были налицо.
У подошвы некогда могучего дерева отверстие-ниша, что-
то вроде входа в сказочный теремок. Если бы не печальный
вид самого «теремка»… Подумалось, через него заползают
в дупло всякие твари попользоваться для собственного про-
должения. Сама «дверца», кусок отпавшей древесной ткани,
чем-то понравилась муравьям, и они разбирали её для своих
закромов.
А ведь и с человеком бывает, как с деревом. Является он в
этот мир с открытым и чистым сердцем, с чистыми помыслами
и желанием дарить ему золото своей души, Но распахивает
дверь, а за нею — обман, корысть, коварство, зависть и про-
чие мерзости, которыми богата наша жизнь. И скукоживается
душа и происходит запустение или накопление всяческого
мусора, и жизнь его дальше — как бы по инерции, с потух-
шими глазами…
Минули осень, зима. Иду весной всё темже парком. Вспом-
нил о своём знакомом. Заглянул внутрь, точно ожидал чего-то
иного, кроме мусора и разложения… Снаружи часть коры
слезла совсем, часть покрылась зеленоватым осклизлым мхом.
Натюрморт оживляла курчавая травка вокруг. Нишу внизу
почти до половины заплела. Через эту нишу из глубины дупла
тонкий, налитый соком росток выгибается. Осенью не заметил.
На самой верхушке три робких молоденьких листочка дрожат.
Успели заявить о себе раньше бывалых сородичей. Подумал,
росток сам по себе, из залетного семени. Но что-то заставило
разворотить мусор в дупле. Корневище нащупал. Да такое
тугое, матёрое… От уставшего и поверженного дерева.
Из него и выходил зелёный росток.
Мысли вслух
* Постоянно, с каким-то упоением хвастается своими под-
лостями. Видимо, искренне считает их доблестями.
* — Глас народа — глас Божий!..
— Да-а?! Глас народа Христа распял.
— Так и я об этом...
* Рухнул с высоты власти. И впал в ничтожество. Знать
не Бог, а бес возносил.
* — Кричишь? Ну, кричи, кричи. Лишь бы не плакал.
* Пьяный… Зигзагами по дороге… Потерял то, чего не
имел.
* Главное, — чтобы нервы в порядке и душа на месте.
* За ночь вода в протоке упала, и обнажились человечес-
кие безобразия.
* Человек, убивший другого человека, даже случайно, уже
не может быть здоровым, свободным от душевной немочи. Во
что бы ни рядился.
* На рыбалке, как в Церкви перед аналоем, — ни началь-
ников, ни подчинённых. Но удивительная штука, на рыбалке
человек не может скрыть своей истинной сути.
* Это не уха. Это симфония
* Простенький флигелёк на берегу реки с закрытыми си-
ними ставнями и такого же цвета деревянной скамейкой. У
самого обрыва… И что-то больно кольнуло в самое сердце.
* На гору по имени «Старость» карабкаться всё трудней.
* Две великие даты у человека — Рождение и Смерть. То,
что между, — ничтожно. Кроме Любви.

















