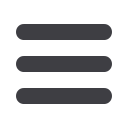

118
Âîþò âîëêè
— Раз-два-три... — Зачем-то я сказал сам себе. — Это, верно, будешь ты!
Полную растерянность лучше всего прикрывать детскими стихами. Прикры-
вать от себя же.
Тасуя фотоснимки, я дёргано листал и свои догадки. «Зачем? Неужели, любила
и любит? Да нет же. Пыль на конверте… Розовые щёчки. При лёгком волнении,
всегда вспыхивают. Слегка отстранилась от «Сэржа». А вот и он на асфальтовом
полотне. Во всей своей пластилиновой прелести. В позе завоевателя. А ножки-то
того, полусогнуты. Робок и никчёмен. Я пристрастен. Ревную. Господи, я ревную!
Ещё снимок. Наша грязная станица в чистом снегу. Он с велосипедом. Транспа-
рант «Закусочная общепита». Жаль, что сфоткался не на фоне сбербанка. Ты,
совершенно походя, как о чём-то пустяковом, рассказала, что летом на ступеньках
сбербанка была распита бутылка шампанского. И после этого на ступеньках он
тебя поимел… Глупое слово «поимел». Но в этом «поимел на ступеньках» есть
порыв, а не пошлая обыденность. Я ошибся. Он — незауряден. Он даже красив.
Какая всё же цель этих снимков? Твоя цель? Берегла на всякий пожарный? За-
пасной вариант? А вдруг со мной пролёт, profundos,.. а так — быстрёхонько к
Сергею Мурманскому. С фотодокументами».
Формат: девять на двенадцать. Пурпурного, королевского цвета пакет.
Точит, ковыряется во мне злой, ехидный чертик, жуёт душу.
Вот пожалел. И уже другой голос. Щадящий: «Не ищи чёрную кошку в тём-
ной комнате. Там её нет. Просто ты ничего не любишь выкидывать. Фобия. Тяга
к старому с привкусом воспоминаний. Или как это назвать? У тебя в шкафах
куча старого дерьма. Дырка на дырке, а жаль нести на помойку лифчики на
косточках, рваную лайкру. У тебя, как теперь говорят, фишка. Новое — чужое.
Новую вещь надо выдрессировать. Дрессированные туфли, объезженная шляпа.
А новые брыкаются».
Бог мой, третий голос, третья шиза: «Неужели в то время, когда ты укладывала
свою голову рядом с весами, и стрелки весов вздрагивали, и тогда эти вот фотки
бережно хранились? Не отрубила напрочь, не порвала, не спалила. Я — мавр,
дикий, древний ревнивец. Не ожидал от себя такого. «Клала голову рядом с
чашами весов». И вздрагивали уголки рта. До смерти не забудешь.
У тебя был ключ от этого укромного места.
Чашечки, стрелки, как две утки с клювами.
Мир существовал для нас. И только. Чтобы не лопнуть от избытка и плотского,
и душевного, и всякого иного счастья, грызли печенье «рыбки» и запивали это
ядрёным квасом. Неужели и тогда где-то прятались снимки? Но ведь, честен ли
до конца и я? В тебе было моё тепло, а во мне — твоё. Купленные в магазине
канцелярских товаров страус со страусихой—нос к носу, «давай потрёмся носи-
ками» — шутливый и всё же философский смысл нашей тайной, неразличимой
другими жизни.
Я помню, как ты обхватила голову руками. И не рыдала. По лицу беззвучно
текли две светлые, блестящие полоски. Ты облизывала губы.
— У меня никого нет. Я одна. И никого никогда не будет.
Я тогда подумал: «И я один». Я принял правильное решение. Остался с тобой.
И не переставал удивляться твоему лицу, которое менялось на дню по сто раз. То
свет его охватит с одной стороны, то—с другой. Даже «хвост» (ты называла длин-
ные свои, схваченные сзади волосы «хвостом») менял свою окраску. И ты купала
меня в ванной, как младенца. Не знаю, что было ценнее, вздрагивающие утиные
клювы весов в том укромном месте или это вот купанье-натиранье мочалкой.
















