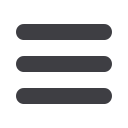

172
Ëþäìèëà Ìàëþêîâà
(«Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою/Отсюда до Аляски!»
) Но, уничтожив Бога,
и поставив на место его Человека, поэт не мог не почувствовать абстрактности такой
замены. Поэму
«Война и мир»
он завершает уверением:
«И он, /свободный,/ору о ком
я,/человек —/придёт он,/верьте мне,/ верьте!»
Поэт даже уточняет этот человеческий
феномен:
«настоящие люди,/бога самого милосердней и лучше».
Провозглашает ему
Осанну: «
Славься, человек! Во веки веков живи и славься!»
Но такой абсолютный
универсализм не подтверждался всей действительностью. Подобные поэтические
формулы становились лишь результатом романтического прогнозирования поэта.
Что же касается самого поэтического «Я», то поставленное в центре мира болевой
точкой, оно разрывалось резкой противоречивостью, эксцентричностью и рассог-
ласованностью с действительностью. При всей многозначности перевоплощения
(«Я — площадной/сутенёр и карточный шулер!», «Я
—
тринадцатый апостол»,
«Я
—
равный кандидат, и на царя Вселенной, и на кандалы»),
в нём преобладали
интонации безысходности и отчаяния
(«Ору — а доказать ничего не уме
ю»). Веро-
ятно, поэтому поэма «Человек» (1916-17) завершается весьма мрачным предсказа-
нием:
«Погибнет всё. /Сойдёт на нет./…И только боль моя/острей —/стою/огнём
обвит/на несгорающем костре/немыслимой любви».
Колоссальная энергетика В.
Маяковского, казалось, способная преодолеть любые препятствия
(«Убьёте, похоро-
ните, — выроюсь!»),
наталкивалась на неподдающиеся коренной переделке «адища»
человеческого бытия.
Его прогнозирование о времени революции в поэме «Облако в штанах»
(«В
терновом венце революций/грядёт шестнадцатый год»)
, возникшее гораздо позже
на месте первоначального «года тринадцатого», открывало возможность советской
критике представлять В. Маяковского как поэта-пророка, вооружённого стоицизмом
и уверенностью в скорую гибель российского самодержавия. Однако трагическая
обнаженность его души свидетельствует об ином. Поэма
«Флейта-позвоночник
»
(1915) открывается безысходным откровением:
«Всё
чаще думаю —/не поставить
ли лучше/точку пули в своём конце».
«Точку пули» он всё-таки поставит — через пятнадцать лет, когда убедится, что
и вымечтанная им революция, перевернувшая мир, по существу ничего не изменила
ни в сущности человека, ни в судьбе человечества, а его собственное «колесо фор-
туны» подвела к тупику…
Но вот революционный Октябрь свершился, и В. Маяковский—среди тех худож-
ников, которые приняли его безоговорочно. Поэт одержим новым временем. — Всё
разнообразие жанров оживает в нём: поэма
«150 миллионов»,
пьеса
«Мистерия-
Буфф», «Революция. Поэтохроника»;
гимны, марши, оды, приказы, огромное коли-
чество сатирических и лирических стихотворений. Поэт работает в Окнах РОСТА…
И всё — о революции с ориентацией на светлое грядущее. Конечно, он видит и её
негативные стороны, но по-иному — иначе, чем многие его современники (М. Во-
лошин, С. Есенин, А. Блок, Вл. Ходасевич). Иначе, чем А. Ахматова, которая писала:
«Всё распродано, предано, продано./Чёрной смерти мелькало крыло». Это «всё»
для В. Маяковского было неприемлемо: негативное в революции он рассматривал,
как своего рода неизбежную жестокость или «издержки» старого мира, которые
очень скоро изживут себя. В
«Оде революции»,
обращаясь к этому историческому
событию как многоликому чуду:
«О звериная! О детская! О копеечная! О великая!»,
он отмечает и его двуликость: гуманистический характер
(«Ты шлёшь моряков/на
тонущий крейсер/туда,/где забытый/мяукал котёнок»)
и зловещую неуправляемость
(«Прикладами гонишь седых адмиралов/вниз головой/с моста в Гельсингфорсе»).
Но
завершается ода дифирамбическим откровением, противостоящим
«изъявленным
















