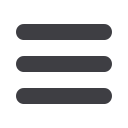

171
ÄÎÍ_íîâûé 13/3-4
гося миропорядка. Поэт, словно ланцетом, обнажал внутреннее состояние, вплоть
до капилляров, гиперболизируя и обостряя его
(«В сердце, выжженном, как Египет,
есть тысяча тысяч пирамид
»). Весь мир предстал ему враждебным и разъятым
на отдельные части
(«Вся земля
—
каторжник/с наполовину выбритой солнцем го-
ловой», «Адища города окна разбили. На крохотные, сосущие светами, адки»).
В
свою очередь эта рассогласованность мира нередко выражалась особой метрической
системой стиха, где слова расчленялись на морфемы, синтаксические единицы пере-
носились из одной строки в другую
(«Но ги-/бель фонарей,/царей/в короне газа», «У-
/лица/У/догов/годов/рез/че./Че/рез/ железных коней/с окон бегущих домов/прыгнули
первые кубы»).
Отсюда следовало эстетическое снижение высоких романтических
образов
(«А за солнцем улиц где-то ковыляла никому ненужная, дряблая луна»)
. И
даже классические розы в таком контексте становились
«ядовитыми».
Но в то же
время появлялись и диссонирующие интонации великой любви-страдания ко всей
земной боли
(«Земля! Дай исцелую твою лысеющую голову лохмотьями губ моих в
пятнах чужих позолотой»).
Вопреки неоднозначности урбанистических мотивов поэтов-символистов, В. Ма-
яковский концентрирует в них весь ужас неразрешённого античеловеческого бытия.
В его городской панораме улицы проваливаются, как
«нос сифилитика»
, автомобили
«вздымаются, как рыжие дьяволы»
, а женщины
«бросают поцелуи, как окурки»
. В
катастрофически распадающемся пространстве поэт создаёт свою антропоцентри-
ческую художественную систему. Отвергая Бога, как основу духовных ценностей
общества, он провозглашает веру в Человека, в абсолютную ценность Человека,
что, несомненно, его сближает с великими идеями гуманистического примата эпохи
Возрождения.
Богоборческие мотивы в раннем творчестве В. Маяковского занимают особое
место. При всей разноречивой вариативности отношений к Богу, он ближе всего
к нигилистической концепции Ницше: «Бог умер». Однако причинность такой
категоричности, утверждаемой философом («И это мы его убили»), не находит от-
ражения у поэта. Его Бог — земной, со всеми пороками, человеческими слабостями
и жестокосердием: холодно-равнодушный, мстящий и сентиментальный. В поэме
«Флейта-позвоночник» он объявляется
«всевысшим инквизитором»
. В отличие от
поэтов-классиков, у которых он невидим, вне земного обозрения (так у Державина в
поэме «Бог» не имеет лица, растворён во времени и пространстве), у В. Маяковского
не только зрим, но имеет и вполне конкретные черты. В стихотворении
«Послушай-
те!»
лирический герой врывается к Богу на приём, целует ему
«жилистую руку
»,
и, плача, просит,
«чтоб обязательно была звезда».
А в поэме
«Облако в штанах
»
Бог
«города на пашни рушит, мешая слова»,
и
«ограбленный, идет карать»,
крича
«о жестокой расплате».
О ранней поэзии В. Маяковского можно с полным правом вести речь, как о поэзии
отчаянного крика
(«У меня изо рта/шевелит ногами непрожёванный
крик»),
кото-
рый претворяется в безудержное бунтарство. Бунт категорический и беспощадный,
переходящий нередко в эпатирующую грубость, направляется против всех слоёв и
форм буржуазного мира: будь это «озверевшая толпа», именуемая
«вошью»
(«А если
сегодня мне, грубому гунну/кривиться перед вами не захочется — вот/я захочу и ра-
достно плюну, плюну в лицо вам»)
; искусство, отделившее себя от насущных задач
своего времени, воплощённое, например, в образе И. Северянина
(«Как вы смеете
называться поэтом/и, серенький, чирикать, как перепел!/ Сегодня надо/кастетом/
кроиться миру в черепе»)
, или «жирное тело» буржуя. При этом заодно порою отме-
тается или подвергается сомнению и традиционная культура
(«Никогда/ничего не
хочу читать»)
. — Вызов бросается всему мирозданию.
Имя Бога включается в арсенал категорического отторжения. Его неприятие вос-
принимается не только как мятежный вызов, но и — безоговорочное уничтожение
















