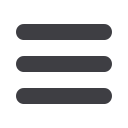

157
ÄÎÍ_íîâûé 13/3-4
Раздался, громкий и настойчивый, стук в окно; мама тут же зачем-то за-
дула лампу:
— Это немцы! Патруль! Дети, в постель!.. И чтоб — ни звука!
Мама в темноте сеней застучала засовом, — открыть дверь. А мы, не раз-
деваясь, юркнули на полати, под общее одеяло. Брат всхлипывал, плакал от
боли, и я тоже плакал — от стыда, от вины, от той нелепости, которая только
что произошла. И от страха, конечно.
В горницу вошли двое, светя перед собой жужжащим фонариком — ву-
у-у-у, ву-у-у-у, ву-у-у-у... От них пахло морозной улицей и чем-то ещё, очень
чужим и зловещим.
Немцы посветили по углам, спросили, нет ли в доме партизан.
— Что вы, пан офицер. И слыхом тут про партизан не слышали…— ска-
зала мама.
Луч прожектора заскользил по стенам, остановился на фотографии
отца.
— Партизан?
— Нет, господин... Убит на фронте.
Похоже, таким ответом спрашивающий остался доволен.
Назойливое жужжание фонарика приблизилось к нашей постели. Я выг-
лянул из-под одеяла, но ничего, кроме слепящего света, не увидел. И снова
спрятался.
— Почему плачут дети?
— Они голодные, пан офицер. С утра ничего не ели...
Немца и этот ответ вполне удовлетворил.
Под страхом расстрела вошедшие предупредили маму, чтобы она, в случае
появления партизан, сообщила о том коменданту или патрулю, или первому
же полицаю.
Немцы, наконец, ушли.
Мама, закрыв за ними дверь, перекрестилась на образа и бессильно опус-
тилась на старый венский стул, на этот самый, на котором я сейчас сижу…
Ту ночь, брат, мы провели с тобой в слезах и обидах.
Брат никогда не напоминал мне о том, но я, когда видел шрам на его руке,
весь заливался краской — мне было по-прежнему стыдно и жалко брата,
стерпевшего тогда напрасную боль. И вот я встаю. Беру свечу, плачущую
восковыми слезами в ногах у брата, подношу её к сложенным на груди рукам,
— есть шрам, сохранился…
— Брат, прости меня…— шепчу я.
Я ставлю свечу на место и отхожу от гроба.
Прилёг на топчан, стоящий у глухой стенки, и только свёл глаза, как слы-
шу братов голос: «Что ж ты, брат, далеко так лёг... Ложись рядышком. Хоть
раз спокойно поговорим».
Тут же и просыпаюсь. Нехороший сон... «А что ещё может присниться у
гроба покойника», — думаю.
О, Боже, как хочется спать... Веки сами собой слипаются. Гляжу на часы
















