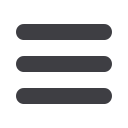

155
ÄÎÍ_íîâûé 13/3-4
теперь у меня брата», —мысль, которая хоть и смутно, но уже обозначилась,
уже зреет, явствует так узнаваемо, так навязчиво…
— Прощай, брат, — говорю я тихо-тихо, зная, что не услышит он меня,
для себя говорю, а для себя громко говорить не надо. — Прощай… Ты был
настоящим братом.
И пошли воспоминания…Как облака в небе—бесконечной чередой. Вос-
поминания — птицы памяти нашей. Они прилетают к нам вот в такие часы
и минуты, когда тихо, и никого нет. Они садятся вокруг нас и давят на душу,
давят, давят… Уже налетели. Вон как их много! Расселись по образам, что
в тусклых, пыльных окладах, и на зеркале, побитом сыростью и временем,
завешенным, — покойник в доме — чёрной тканью, и на часах-ходиках, где
уж столько лет медведи-кузнецы куют, да никак не выкуют, какую-то поковку
—может, счастье, а может, саму судьбу. И на печной загнётке уселось, сложив
крылья, одно недобрых лет воспоминание.
…Лютая была тогда зима. Деревня наша, засыпанная снегом, в холоде и
страхе стояла под немцем, а фронт лишь изредка и издали подавал о себе
грохочущие звуки. Стёкла окон под мохнатым инеем, ничего сквозь них не
видно, а так хочется поглядеть на зимний день, на снегирей, стайкой прилета-
ющих в наш палисад. К вечеру мама принесла охапку дров, бросила их перед
печкой, которую мы топили по вечерам, ради тепла, а варили пищу утром в
большой печи. Дрова сырые, гореть не хотят, и печка дымит — по горнице
ходит, переливается волнами горький дым.
— Это к оттепели, — сказала мама.
Тлеющие дрова разом вдруг схватились пламенем, печка наша загоготала
будто дьявольским смехом, и тут же задышала теплом, и холодная лежанка,
на которой я сидел, дрожа ознобно, в ожидании тепла, скоро затеплилась,
зарадовалась. Не зажигая света, мы всей семьей так и сидели в сумеречной
тишине, и только пурпурные отсветы прыгали, резвясь, играясь, по белым
стенам, по образам, по нашим лицам…
— Мам, разреши у трубы посидеть.
Мама, в платке, обвязанном вокруг головы, в стёганке-безрукавке, словно
не слыша, смотрела на огонь.
— Ну, мама-а-а…— клянчил я, растягивая слова. — Хоть трошечки.
Мама знала, что я, с какой-то дикой страстью, люблю смотреть на огонь, и
уступила мне низенькую, ещё отцом сколоченную скамеечку, сама забралась
на лежанку, где уже разлёгся, подложив под голову старую, с оторванной
звездой, отцовскую будёновку, мой старший брат. Ему семь лет, но он уже
рассказчик, прямо сказитель какой-то.
— Бог тебя, сынок, поцеловал. В самое темечко…— сказала ему однаж-
ды мама. Услышав это, я, не всё понимая, догадался, что сказала она что-то
особо похвальное. Мне она ничего и никогда такого не говорила.
«Бог поцеловал…» Я посмотрел на икону святого Николая, перед которой
бледно мерцала лампада, и Николай из-за стекла зачем-то строго погрозил
мне поднятым пальцем.
















