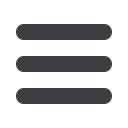
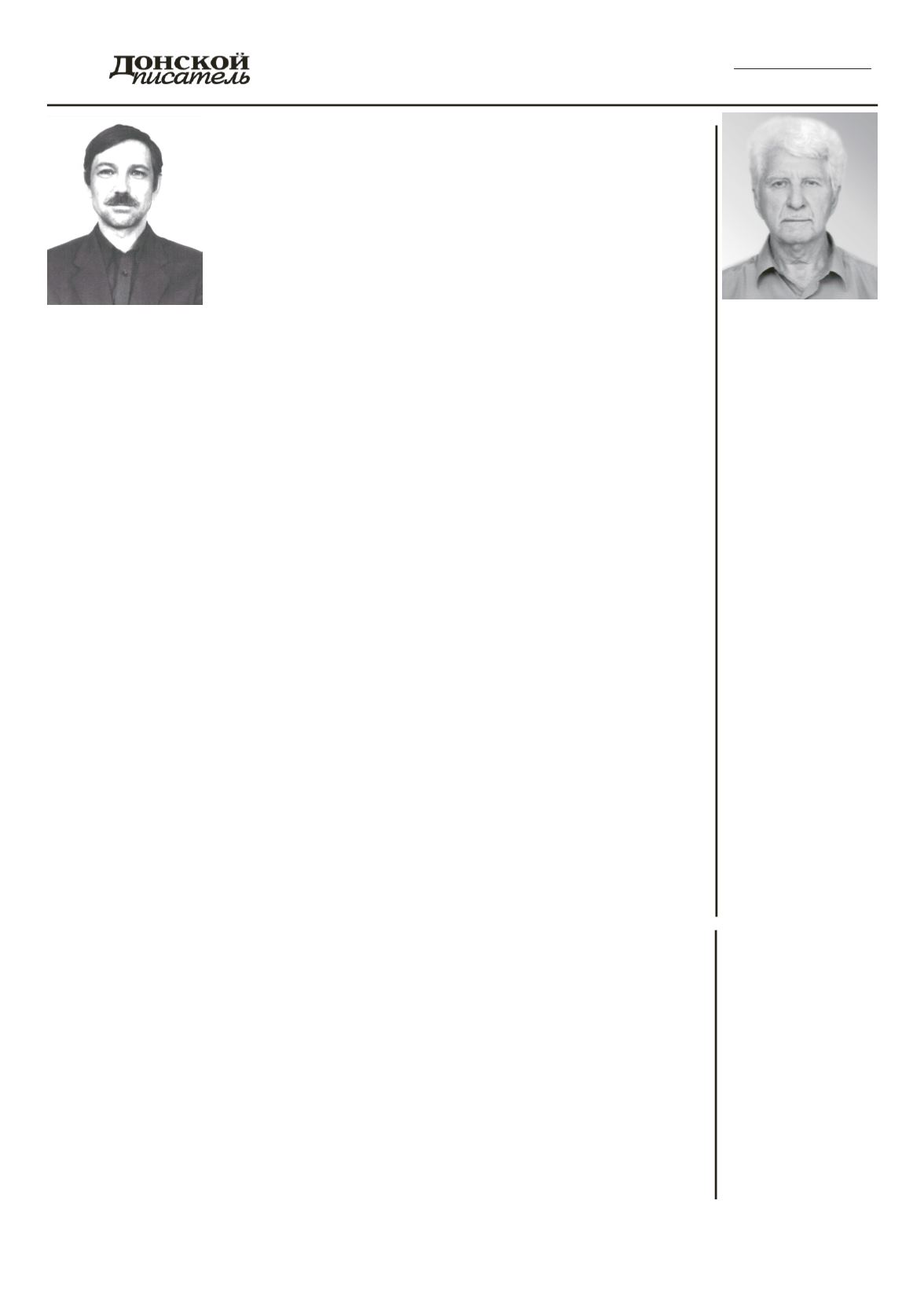
Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
4
¹11-12 – 2011 ã
Он открыл-таки глаза… Он
– это бригадир молочно-товарной
фермы, с клёванными вьединами
на щеках от давних юношеских
угрей и примечательным рваным
шрамом на нижней губе от буйного
коровьего рога. Он – сбитый, ска-
танный крепко, как самородный ка-
мень-валун, внук кавалериста 5-го
Донского корпуса. Его привезли из
дальнего хутора в районную больницу в первое новогоднее утро перед
рассветом, подняли на ноги врачей, следователей…
– Кто тебя ударил, Семён Иваныч? – спокойно, но требовательно
задал вопрос молодой человек с коротенькими усиками в накинутом
на плечи белом халате.
Семён посмотрел по сторонам: справа и слева стояли пустые койки
и тумбочки. Догадывался: больничная палата. Кто-то там ещё топтался
у изголовья за грядушкой, – вздыхал и сопел молча.
– А вы кто? – шевельнулись непослушные губы с вислой сливиной
кровоподтёка.
– Из прокуратуры… – наёжились усики и выправились:
– Так кто же вас ударил?..
– Горбачёв…– И глаза больного заблестели: было досадно и обидно
за себя. Теперь, вот, жалели его, стояли над ним, как над ребёночком, а
он этого не любил и не терпел. Жалость его расслабляла, он становился
доверчивым и щедрым. Но сейчас это не к месту: надо было, стиснув
зубы, выжить. Но приставали с вопросами, и следовало отвечать.
– А вы вчера сказали, что Ельцин…
– Ну, да-а…Горбачёв и Ельцин, – прошептал, точно по секрету, постра-
давший.
– Они что, работали на ферме? – так же серьёзно спрашивали усики,
и человек в халате посмотрел снизу вверх за спинку кровати, хитровато
моргнул глазом кому-то из присутствующих там.
– Ды уж поработали…
– Вы их можете угадать?
– Портреты в красном уголке...
– Ну и что, – портреты ударили?
– И дюже вдарили… Мы коров доить начали, а тут раз! – и свет
отключили.
Семён начинал отвечать на вопросы громче и отчетливей.
– Что дальше было, Семён Иваныч?
– Во-от… свет вырубили… Я зажёг керосиновые лампы, фонари…
Давайте, грю дояркам, доить коров вручную, а то загубим их, из Хвин-
ляндии привезённых.
– Так… привезли… И с ними приехали Горбачёв и Ельцин … Да?
– Следователь хмыкнул, сморщилась у него на горбинке носа детская
ещё, молочного выбела кожа. По щеке прокатилась волнистая рябь и
застряла в прищуренных глазках насмешливой улыбкой, какая может
быть у людей служилых и культурных после новогоднего застолья.
– Не-е…– поднял брови Семён, и морщины перехватили лоб много-
жильными скобками, как проволочная перевязь на деревянных столбах
с железобетонными пасынками. Медленно передавались его мысли в
слова. Наверно, мешала повязка на голове. Это же была не косынка,
не белый платочек жены, а бинты, которые нетрудно было определить
на ощупь. Он никак не мог вспомнить, куда девалась белая хлопчатобу-
мажная косынка; он же из хитрости покрыл ею себе голову перед дой-
кой, чтоб коровы чуяли запах хозяйки и подчинялись ему с полуслова.
Семён вспоминал, указательным пальцем втирая что-то себе в висок:
«Ага, нынче ночью год новый начинается… Доярки: «мать-перемать,
када это кончится?!». Шумять на весь корпус: «Не будем доить! Свет
давай! Щас Новый год, а мы коров за сиськи тягать будем…Нехай сто-
ят! Нехай новую жизню терпють…Это им не у хвинов…» Я, значить, в
дверях ход перегородил: «Бабоньки, родненькие, вас четверо, а я один,
вы чё ж по питьдесят голов набрали? Давай типерчик вручную доить,
к серед ночи в аккурат кончим, шампанским тут прям и стрельним.
А ёлку – я щас сбегаю в лесополосу и принесу.» Ды куды там… рази
сговоришь с ними? Права они таперь все знают! Шумлю им во всю
глотку, аж в глазах потемнело: «Щас директору совхоза звонить буду,
обождите трошки. Свет будет!» Ну, присели, я телефон бью, а мне так:
«Дюже много свету стравили, а он же подорожал до неподобного, и
совхоз за долги скрось обрезали. Ждитя с Рожества-праздника». Это
директор прямо так мне. Ды я бы и рад ждать, ды молоко у коров по
лыткам текёть, вымяки, прям, лопаются, – ды эт хана коровушкам, чё
их тада было везти черте откуда? По тридцать тыщ советскими выки-
нули за голову, чтоб с молоком быть и в передовиках. Ну, чё делать?
Погубим коров… Ага, я бряк тада в райком первому – захворал он,
я – второму, а тот смеётся и так это грит: звони Меченому, он кашу
заварил… Я – Михайлу Сяргеичу (был у мине один номерок, чиряз
кого звякнуть) прям на Москву, в Кремль: «Свет включи нам, Михайло
Сяргеич, ради Христа… Заплатим, не боись.Чё, нельзя было трошки
обождать? Послал миня Сяргеич на кудыкину гору: «У вас ,– грит,
– свой расчёт и самооправдание должно. Мне што ля ваших коров
ехать доить? Я щас с сибе всё складываю, раз вы за свет не плотитя.
Нельзя же так, понимаете, до бесконечности всё это терпеть… Вы на
лопатки положили всю, понимаете, энергетику страны!» Ну, обласкал
и я яво чиряз трубку, аж из неё чё-то посыпалось и затрящало. А бабы
Ëåîíèä. Äüÿêîâ
Ëèïà øåï÷åò
ïå÷àëüíîå ÷òî-òî...
Осыпается сад
Осыпается сад. Осыпается
медленно,
Словно думает думу
О чём-то своем.
Листья кружатся, кружатся –
Красные, медные –
И ложатся на землю
Печальным ковром.
Осыпается сад. Ничего не
поделаешь,
Это слышу я ночью,
Это слышу я днём
И я мир представляю
Огромнейшим деревом,
Где шумят до поры
Листья-люди на нём.
Уходит теплынь
Остановился, затих и заплакал
День лазоревый,
День золотой...
и задумалась верба-кривляка,
И склонился к земле
Зверобой.
Липа шепчет печальное что-то...
Полыхнула за рощей заря.
И уходит теплынь за ворота
На согбённых плечах
Октября...
«Ничего, ничего. Все в порядке!»
С грустью
Сам я себе говорю.
И смотрю,
Как река без оглядки
Принимает в объятья зарю...
Песней поднимаюсь
над собою
Все от сердца: доброе и злое,
И любовь, и зависть, и тоска...
Что же это деется такое –
К свету тропка тоньше волоска!
Выбирайся, отсекай худое.
Вправо, влево – бездна, темень, ад...
Песней поднимаюсь над собою
В синеву, где лебеди летят.
Там простор, там звёзды
голубые,
Там светила раньше всех встают.
И глаза задумчивой России
Всех нас по полёту узнают...
Ѹìà – íàø!
новогодний рассказ
Ãðèãîðèé Ðû÷íåâ
слухали-слухали, побросали вёдры, цыбары, аппараты в угол – пошли
домой Новый год встревать, няхай коровы хучь пополам разорвутся,
пропади он пропадом, этот сэсэр!
Ну, баба моя при мне осталась, привел я свою дочку, сына, бабку род-
ную с печи спихнул, соседку уговорил, чтоб пришла помогла вручную
доить…А чё ж, я бригадир, с мине спрос государственный, ежели дело
до суда дойдёт. Вот и начали доить. А коровы-то не приучены к рукам.
Пока подойдёшь ты к ней, вымя приготовишь, усядешься на стульчик
али на причапки, – она тебя три раза перевернёт и пять разов ведро из
рук выбьет ногой. Не подходи к ней, и всё. А вымя, видим, вздулася,
титьки уж в разные стороны глядят. Тут бы хучь чуть мотор загудел
ба, коровки ба расслабились да подпускать стали б…
Ну, вот, начали доить. Я сам по себе, рядом – дочка, дальше – жена с
соседкой, сынок помогает: то да сё. Ночь идёт, а мы доим. Молоко есть
куда сливать, есть кому носить. Я молю Бога, чтоб керосин не кончился.
Вот уж куранты отбили, а мы: дзик, дзик, дзик в вёдры молоко.
Соседка с часу ночи ушла. За ней следом – бабка (тожеть с неё спро-
су никакого). Спасибо, грю, – вот и всё, наряд выпишу, на гостинцы
унукам. Не, чижолое это дело: доить коров вручную. Дочка тоже ухны-
калась. Ага, вдвоём с женой остаёмся…Какой там Новый год…Вроде
как соревнование у нас, а потом и она руку подвихнула. А я же упёртый,
мне брехни не на-а-до. Коровок жалко и молоко тоже. Жимок у мине
ишо с армии дай боже, мне лишь ба ухватиться – чёрта с два выпущу.
И вот уж немного недоеных коров остается: две или три…Подхожу
к последней, сажусь на стульчик, ведро подсовываю кормилице под
пузо. «Хвина, – говорю, – милая, припускай молоко». Лап за сиськю,
хотел жимануть молоко в ведро, а она мне чертяка ногой на-на! Я – в
стену, ведро – туды, стулка – сюды, а потрет Сяргеича из уголка на
– меня. Рамку сварили железную, я иё сразу угадал. Ага, думаю, так
тибе и надо, валяйси на полу: свет нам за всю ночь так и не включили,
а у мине на лбу шишка куриным яйцом вылупилась и заяснелось так от
неё, как всё равно от хванарика шахтёрского. Ну и чёрт с ней, думаю, с
этой шишкой, нехай светит, главное – коров подоили, а днём чё-нибудь
придумаем, откель двести двадцать вольт взять.
Но чё-то затошнило миня, зашатался коровник. Плюнул я – сукро-
вица вроде, плюнул ишо раз на ладонь, а энто зуб выскочил, и тут
я кудай-то провалился, и голос жены где-то далеко. Она не ко мне по-
бегла, к – телефону, стало быть, «скорую» вызывает… Слышу, уже с
Сяргеичем опять гутарить, рапорты отдаёт. Бегёть назад, шумить: «Яво
уж там нету, отрёкси, помогать некому». Во как! А мне типерчик ляжи,
жди когда зуб вырастет…
– Стоп! – прервали рассказ усики. – Прошу свидетелей подтвердить:
Семёна Ивановича ударила ногой корова или кто другой?
Семён поднял брови:
– Гля, чё я тут ляжу? Надо идти опять коров доить... – И он припод-
нялся на локте, свесил ноги с постели. Его тут же остановили, снова
уложили на подушку, а ноги – под одеяло.
– Вам нельзя вставать…
– Как это нельзя? Люди что скажут? «Мы тебе доверили, а ты сачка да-
вишь». Не, я в бригаду поеду, на ферму. Нам до Рождества продержаться.
– Нельзя… У вас перелом кости... – Уговаривали больного медики.
…Семён наконец-то согласился, присмирел, а вечером, едва стем-
нело в палате, спустил ноги с постели, встал раскорякой, расправил
плечи, присел раза три, накинул на плечи конёвое покрывало и вышел
в коридор… И ушёл. Кто же там без него коров доить будет? Кто же
без него отправит молоко – пенное и самое настоящее – на маслозавод,
в детские сады, в магазины?
А после новогодних праздников на «планёрке» дежурные врачи
вспоминали: вечером во дворе больницы всхрапывал чей-то осёдланный
конь, он бил копытом, высекая подковой из каменной дорожки искры.
А затем он приглушённо заржал и поскакал, и долго ещё в морозном
воздухе был слышен удаляющийся перестук копыт крупной конной
рыси. И никому до него уже не было дела: что это за конь, откуда и
какой породы. Ну, конь! Проскакал, вот и всё.
...Как-то я приехал перед вечером на хутор и вдруг слышу: зарабо-
тала на старой ферме мехдойка. Монотонный гул затопил всю округу:
ууу…Да неужели всё тот же Семён Иванович? И мне подтвердили – он.
И ферму, и единственное на всё Придонье молочное стадо сохранил. А
если и вам придётся ехать в нашу сторону, то непременно, не выходя
даже из автомобиля и не забиваясь куда-нибудь в глубинку, увидите
в руинах, как после землетрясения, в зарослях репейника, калифор-
нийского и обыкновенного дурнишника да стеблистой лебеды многие
разорённые фермы…
А ферма Семёна Ивановича, с коровником да с телятником, кор-
мокухней и выгульными базами, побелена и выкрашена, на въезде
– крытый дезбарьер с воротами, и от него вправо и влево клумбы с
красными розами; придётся же повидать бурёнок, вы найдёте их чис-
тыми и сытыми, – они какие-то важные у него и степенные, как и сам
хозяин – крестьянин и фермер.
Уж сколько лет прошло – Семён Иванович по-прежнему крепок,
всё тот же на лице шитый шрам, всё так же умеет, не успеешь глазом
моргнуть, вскочить на коня. Одно слово: нашенский весь – сбитый,
скатанный крепко, как самородный камень-валун.
Вот объявят скачки в районе – Семён Иваныч обязательно будет
участвовать в них и не уступит первого приза; вот поднимут по тревоге
– он первым прибежит в военкомат в своей казачьей форме. И в день
донора Семён сдаёт свою кровь для больных в числе первых. « Сёма
–наш!» – как ещё нередко называли его товарищи, всякому хорошему
человеку – «братан» или «батя».
Нет, любы-дороги Дону настоящие казаки...

















