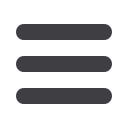
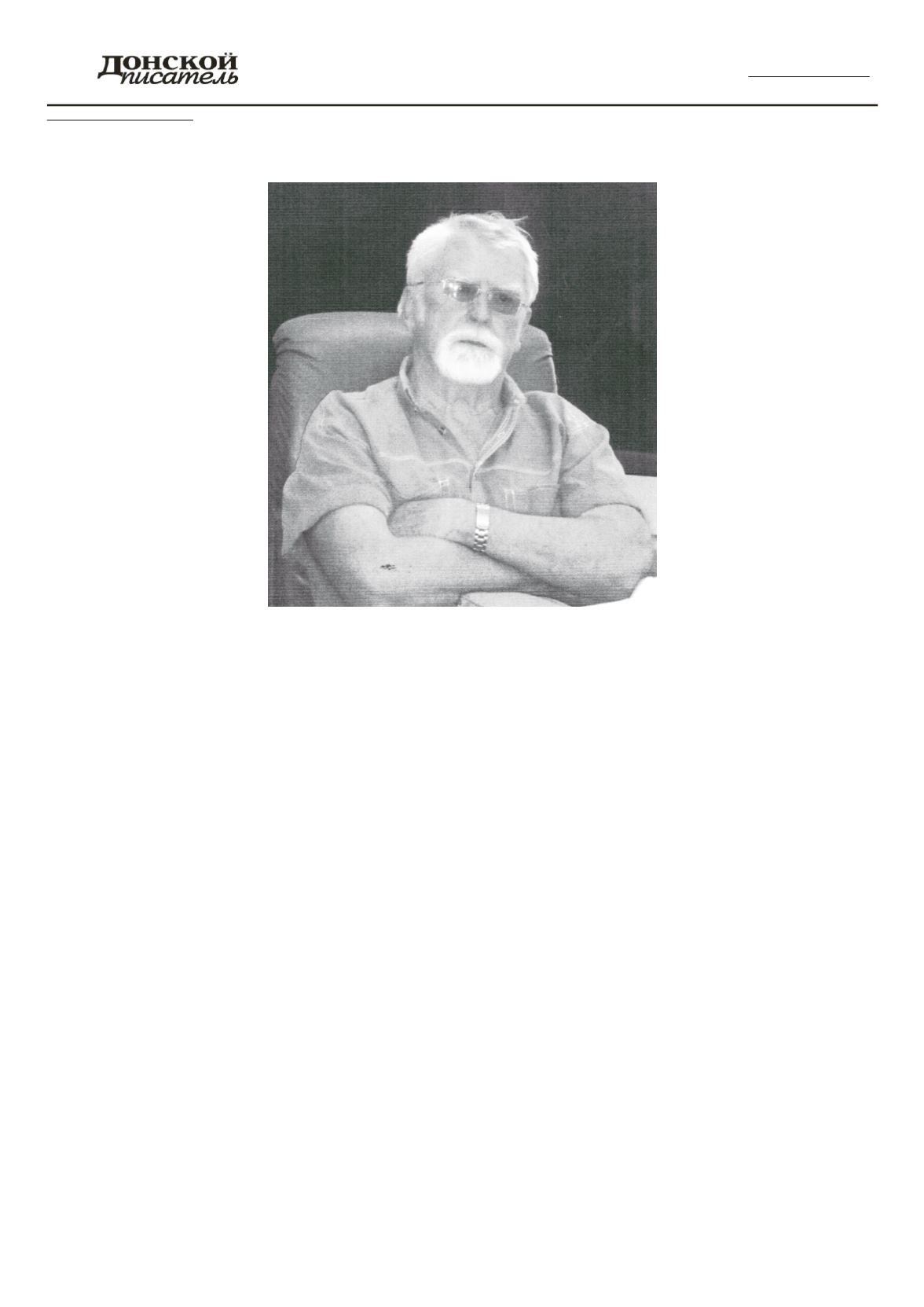
Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
4
¹10 – 2011 ã
Мы сидим на склоне балки, под не-
пролазным терновником. После смерти
бабушки Насти дядя Исай и дядя Яков
– самые близкие люди в Белояровке. В
моей памяти дядя Исай всегда увязывал-
ся с золотым хороводом пчел, привкусом
меда и вощины. Внадетой на голову метал-
лической сетке, с дымокуром он своими
повадками походил на хирурга. Осторож-
но, будто череп диковинного существа,
снимает он крышку улика. Вынает медо-
вую раму, разглядывает на свет. Что-то
не нравится, и он бракует её… Вот тут и
начинался наш, ребячий, праздник…
Я был уже студентом, собирался в
каникулы проведать родителей и, конеч-
но, побывать в нашем родовом хуторе
– Белояровке. Долго ломал голову, какой
подарок привезти дяде Исаю с моей
простенькой стипендии. Купил за шесть
рублей заморское чудо – прогонистую бу-
тылку ёмкостью 0,66 литра под названием
«бренди» с заморскими нашлёпками…
Мы-то привыкли к 0,5, ещё – к четвер-
тинкам. И вдруг, в начале шестидесятых,
прилавки Ростова оккупировали эти
«бренди».
В цветущем клевере отыскал пасеку.
После приветствий, а также короткого
разговора о том, как добрался, протяги-
ваю дяде Исаю заветную бутылку. Он
начинает почесывать затылок, думая, куда
её приспособить. Я знаю, у него водится
своё, доморощенное «бренди», выгнанное
из мёда и настоенное на прополисе. Но
предложить вместо «моего» ему неловко,
боится обидеть. Инапрасно. Из-за его фир-
менного продукта к нему заворачивали
даже иные из районного начальства.
Дядя Исай протискивается в камы-
шовый куренёк. Выползает с увесистой
сумкой. Куренёк этот не простой, он при-
крывает холодный подвальчик.
– Тут такое дело… – шевелит губами,
подыскивая слова. – Пчёлы сатанеют от
запаха этого зелья. Давеча пьяный Вань-
ка Бэша на мотоцикле пригонял. И так
драпанул!.. За малым уши на колеса не
намотались. Айда в балку. В тёрны. С
глаз подальше.
И вот мы сидим «в тёрнах». Дядя Исай
выкладывает на цветной рушник огурчи-
ки, зелёные перья лука, шмат пахучего
сала, краюшку хлеба, ту самую медовую
вощину с оплывшими янтарными сота-
ми…Хлопает себя по карманам, досадли-
во вертит головой:
– Ножик забыл.
Я подаю свой. Дядя Исай рассматри-
вает его.
– Из четырех предметов. А у меня…
– Он замолкает, словно проверяя мою ре-
акцию. – У меня был двенадцатижильный.
С костяной нарезной колодкой. Сейчас на
такие ума не хватает.
Я слышал ту историю с его «двенад-
цатижильным» складным ножиком. Но
сам дядя Исай не рассказывал. И когда
по очереди вытягиваем из алюминиевой
кружки едучую коричневую влагу, как бы
ненароком роняю:
– А вы его, двенадцатижильный, на
пасеке забыли?
Дядя Исай снова испытывает меня сво-
ими светлыми, всепонимающими глазами.
Он догадывается, что я хитрю, но, видать,
и самому хочется вспомнить. Говорит не-
торопко, смачно, будто рисует цветным
фломастером на оконном стекле…
Гражданская война. Полуразрушенный
Царицын. Штаб красных. «На часах» – в
буденновке, в линялой армейской одёжке
молодой Исай с винтовкой. Из проулка
живо выворачивает очкастый человек в
распахнутой шинели, с черными лохмами
волос. За ним – свита из высоких военных
чинов. Как взнузданный конь, человек
застывает перед часовым. «Кто таков?».
Красноармеец, поедая глазами неизвест-
ное начальство, без запинки рапортует:
боец такой-то, такого-то взвода, такого-то
полка, родом оттуда-то. Несет службу по
защите революции…«Молодец! – хвалит
расхристанный и обводит сверкающими
глазами свиту. – Разве с такими орлами не
победим?! – Достает из галифе складной
ножик и протягивает часовому. – Бери! И
помни наркома Троцкого!..».
– И какой он был, Троцкий?
Задавая этот вопрос, я не сомневаюсь,
дядя Исай ответит примерно такими,
как бы на века отлитыми, словами: мол,
Иудушка – он и есть Иудушка.
Но слышу неожиданное: «Лев Давы-
дович не задирал перед красноармейца-
ми носа. И красноармейцы уважали его.
Подойдет, расспросит, кто такой, откуда,
как служится, на что жалобы, что из дома
пишут?.. Немало красноармейцев по име-
нам и фамилиям знал»…
Не ведаю, что отвечал дядя Исай энкэ-
вэдистам, но вернулся из тюрьмы через
пять лет без «двенадцатижильного». И по-
том до конца дней жалел, что не уберег.
Уж больно ладный ножичек был. «И
для войны, и для тюрьмы, да хоть и так
просто…». Ну, а как отвечал?.. Я хорошо
знал дядю Исая: если уж во что уверует,
свихнуть его с этого пункта немыслимо.
Будешь настаивать, – замолкнет, затверде-
ет, и ты перед ним хоть гопака выбивай,
махнет рукой и отвернется. Впрочем, мне
он так и не открыл, за что сидел первый
раз. Доходило от других: то ли «за связь с
троцкистами» или за то, что, будучи пред-
седателем колхоза, не сдал подчистую
зерно. Самовольно оставил на семена. А
может, и то, и другое связали в один узел.
В те годы была такая мода…Спустя пару
лет после этой встречи я покажу дяде
Исаю печатный рассказ очевидца о том,
как Лев Давидович Троцкий собственно-
ручно расстреливал из маузера учителей
гимназий и священников…
Он долго и подозрительно будет погля-
дывать на меня…
Второй раз его посадили перед концом
войны. Зерно хуторяне, у кого оно сохра-
нилось после немцев, толкли в ступке или
прогоняли на самодельной «рушке». Как
в стародавнюю пору. Муторное это было
занятие. По себе знаю. И вот дядя Исай
соорудил на бугре «ветряк». Достал где-то
плоские камни, приспособил под жернова.
Получилась мельница. Не особо знатная,
но все же…
Сначала молол для себя. Потом стали
проситься другие. «Дед Исай», так звали
его в хуторе, никому не отказывал. Люди
облегченно вздохнули. Но нашелся скры-
тый «доброхот», которому этот «ветряк»
стал поперек горла. Отписал куда надо:
будто самовольный мельник берет с кол-
хозников мзду за помол. И снова – казен-
ный дом…
Дядю Ефима я не знал. Его забрали в
тридцать седьмом. Шестнадцатилетний
сын Петро набавил себе два года и в со-
рок третьем добровольно пошел на фронт
«кровью смывать позор отца». Окончил
ускоренные лётные курсы. День Победы
встретил капитаном. А все трое – и мой
отец, и дядя Ефим, и дядя Исай – были
в гражданскую красногвардейцами. За
что и почему взяли простого колхозного
конюха дядю Ефима, где сгинул – так и
осталось тайной.
Ну, а дядя Исай… Другого бы такие
извивы судьбы изломали, измельчили, а
он…Не замечал, чтобы когда-либо молил-
ся или поминал имя Божье. Но немало в
его жизни и судьбе было по Христу. От
дяди Исая исходила спокойная душевная
сила. Я заряжался ею, вроде аккумулятора
от источника электричества. Рядом с ним
мне было стыдно за свою раздерганную,
скачковую жизнь, за душевный неуют…
В доме дяди Исая, даже в тяжкие для
всех времена, когда он не сидел в тюрьме,
был достаток. По сравнению с другими ху-
торянами, конечно. У него и яблоки были
крупнее, и сливы вкуснее, и дыни пахучей
да сахарней. Ломтики во рту таяли. А уж
пасека… Иные завидовали. Но невольно
подтягивались до его положения. Он же
делился, чем мог. В собственном хозяй-
стве горбатил после колхозной ломовой
упряжки. Как и все. А пришлось ему по-
мытарить и председателем, и водовозом,
и пастухом, и конюхом, и плотником, и
сторожем… Но пчеловодил всегда.
С ним не было скучно. Как и мой отец,
он окончил всего два класса церковно-
приходской школы. Оба были великие
книгочеи. А библиотеке дяди Исая мог
бы позавидовать иной доктор филологии.
Он выписывал почти все центральные га-
зеты и журналы. Местные – обязательно.
Библиотека занимала обширную веранду
и добрую часть флигеля. Десятки страниц
«Тихого Дона» дядя Исай знал назубок.
Как иные – библию. Для него книга та, по-
хоже, и была библией. Тут мне вообще не
с руки было с ним тягаться. А однажды он
выдал: «Знаешь, в тридцатых годах «Ти-
хий Дон» спас меня и всю семью от вер-
ной погибели. Зимой было дело. Ночью.
На дворе метёт, воет. Все уже поснули, а
я читаю на лежанке, при лампе керосино-
вой. Чую, что-то не то, что-то в ноздрях
нехорошо щекотит. Глядь, а задвижка в
грубке закрытая. Чад по хате стелится.
Будить своих, а они никак, нанюхались
уже. Открыл двери, устроил сквозняк.
Молока – через зубы… Еле откачал».
Но, конечно, прикипел он душой к «Ти-
хому Дону» не только поэтому. То был рек-
вием по нему самому и по его надеждам.
А надежды таились насчет той землицы,
которую обещали. За неё все трое и хлес-
тались против своих же.
Я получил телеграмму о кончине дяди
Исая и в тот же день вечерним шестича-
совым «Ростов – Саратов» отправился в
Морозовск, откуда ближе всего до хутора
– двенадцать вёрст. Была страшная распу-
тица. В Белояровку прибыл, когда дядю
Исая уже похоронили.
Саня, моя двоюродная сестра, а его
дочь, рассказывала: «До последнего – на
ногах. В тот день старую грушу корче-
вал... Гляжу – во двор зашел, к забору
притулился. Я к нему: «Батя, вы чего?».
А он: «Налей-ка мне рюмочку... Что-то
теснение в груди... – Да вы, может, сразу
и повечеряете. Пора. – После. Полежу
трошки». Выпил стопку своего, ты же
знаешь, оно у него от всех хворей, и по-
шел к себе, во флигель. Потом… Уже
смеркается, а бати во дворе не видно. А он
завсегда в этот час с худобой управлялся.
У меня сердце сдавило. Накинула платок
и – к нему. А он лежит тихонько на топ-
чане, лицом к стенке отвернутый. Торк в
плечо: «Батя, батя!». Повернула его, а он
– мёртвый…».
Хозяйской смёткой и трудолюбием,
чуткостью и душевной щедростью род-
нился с дядей Исаем и его зять – Володя
Кононов, муж Сани. Я сильно привязался
к нему… И когда его слишком рано не
стало, Белояровка для меня как бы обед-
нела. А вообще такие люди напоминали
мне пчёл. Они и умирали на лету. Умирали
безропотно, с тайной виной, что не успели
донести до своих ульев очередной порции
медового сбора.
Ãåííàäèé Ñåëèãåíèí
Ä Â Å Í À Ä Ö À Ò È Æ È Ë Ü Í Û É
Ê 75-ëåòèþ ïèñàòåëÿ

















