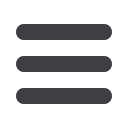

33
ÄÎÍ_íîâûé 14/3-4
Игнашке Бодягину—четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил
отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошёл Игнат к отцу вплотную,
сказал, не разжимая зубов:
— Сволочь ты, батя...
— Я?!
— Ты...
Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крова чересседельней. Вече-
ром, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишнёвый костыль,
обстрогал, — бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:
— Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберёшься — назад вер-
тайся, — и ухмыльнулся.
Так было, — а теперь шуршит тачанка мимо заиндевевших плетней, бегут
назад соломенные крыши, ставни размалёванные. Глянул Бодягин на раины в
отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в
безголосном крике; почувствовал, как что-то упёрлось в горле и перехватило
дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:
— Старик Бодягин живой?
Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в дратву
щетинку, сощурился:
—Всё богатеет... Новую бабу завёл, старуха померла давненько, сын про-
пал где-то, а он, старый хрен, всё по солдаткам бегает...
И, меняя тон на серьёзный, добавил:
— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?
Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:
—Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При
обы-ске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный
суд уст-роим и шлёпнем...
III
Председатель трибунала, бывший бондарь, с призёмистой сцены народ-
ного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:
— Расстрелять!..
Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца опознал. Рыжая борода
только по краям заковылилась сединой. Взглядом проводил морщинистую,
загорелую шею, вышел следом.
У крыльца начальнику караула сказал:
— Позови ко мне вот того, старика.
Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах,
потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.
— С красными, сынок?
— С ними, батя.
— Тэ-э-эк... — В сторону отвёл взгляд.
Помолчали.
—Шесть лет не видались, батя, а говорить нечего?
Старик зло и упрямо наморщил переносицу.
— Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за моё ж добро
















