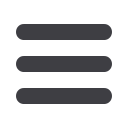

151
ДОН_новый 15/1-2
писем, и остались только те, которые не смогли доставить. Возможно, не
смогла сама бабушка. Я никогда у неё о них не спрашивала.
Я вобрала эти письма в себя, как губка. Я была полна ими на столько, что
иногда мне казалось, что меня самой больше нет. Я словно ларец, хранящий
в себе жизни других, возможно, давно умерших людей. То, что не мог об-
работать мой, всё ещё очень детский ум, он пытался понять во время моего
сна. Мои сны всегда были очень яркими и реалистичными. Это не всегда
были взрывы, часто снилось яркое синее небо. Мне казалось, что я лежу в
траве, и просто смотрю на него. У меня появилось понятие не моих снов.
Просыпаясь, я точно могла сказать, это был мой сон, хотя, конечно, все эти
сны были моими. И всё же. Этот сон был лично мой или нет?
Часть писем проходили сквозь меня словно лёгкий ветер. Не оставляя
почти ничего. Как дуновение или миг чьей-то жизни, к которой мне по-
счастливилось прикоснуться. Другая же часть оседала тяжестью, сжимала
мои внутренности, не давала дышать. Я «находила» себя в слезах над этими
письмами бессчётное количество раз, и всё же, не могла остановиться. Ка-
залось, если я не прочитаю их, то люди в этих письмах умрут. Уже навсегда.
Окончательно. По-настоящему.
Письма были самые разные. От женщины, которая писала матери, о том
как носила в соседнюю деревню свою одежду и обувь, стараясь поменять
её на еду для детей и мужа. Как она с другими женщинами возвращалась в
город, не зная, вернётся ли она к детям или придёт к развороченному бомбой,
уже не живому дому.
От маленькой девочки, попавшей в Освенцим из белорусской деревни.
Девочки, которая писала письма никуда. Которая не надеялась, что их кто-то,
когда-то прочтёт. Возможно, эти письма, писались именно для меня.
Я читала письма, которые были пропитаны болью, страхом, отчаянием,
надеждой, светом, и непроглядной теменью, а ещё любовью. Такой, которая,
кажется, и сейчас жива, даже если адресатов уже давно нет.
Я повзрослела, или состарилась. Больше не имея возможности смотреть
на мир такими же детскими глазами, которыми смотрела раньше. Я хранила
в себе сокровище, я хранила в себе память.
Больше всего меня поразило письмо немецкого мальчика, точнее подрост-
ка, или мужчины. Мне кажется, что в то время мальчики как-то сразу стали
мужчинами, минуя возможность быть подростками и молодыми парнями.
Его, как и многих других немецких детей, сразу после окончания войны кор-
мили русские солдаты. Кормили, лечили, грели. Русские солдаты, сами ещё
вчерашние дети, которых совсем недавно, не дрогнув, насиловали, сжигали,
расстреливали отцы таких вот немецких детей.
Я долго думала, что это за явление такое—Русский Солдат? Откуда такое
милосердие? Почему не мстили? Кажется, это выше любых сил — узнать,
что всю твою родню живьём закопали, видеть концлагеря с множеством тел
замученных людей. И вместо того, чтобы «оторваться» на детях и жёнах
врага, они, напротив, спасали их, кормили, лечили.
Так вот, этот мальчик, через несколько лет встретился с солдатом, который
кормил его тогда, среди руин города; он горячо жал его руку, и говорил, что
помнит, как тот помог ему, и никогда этого не забудет.
















